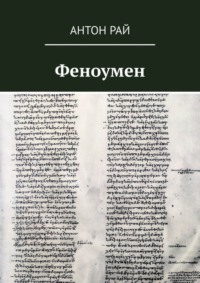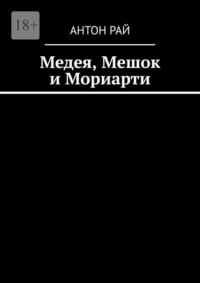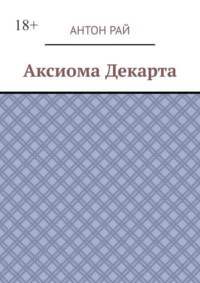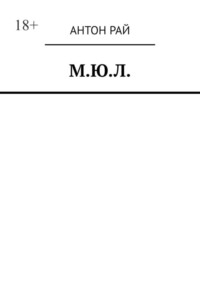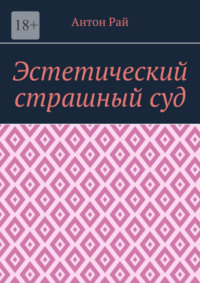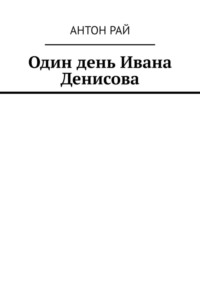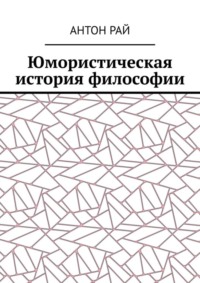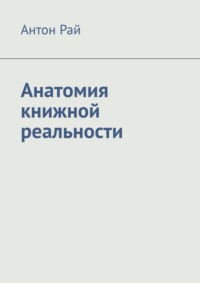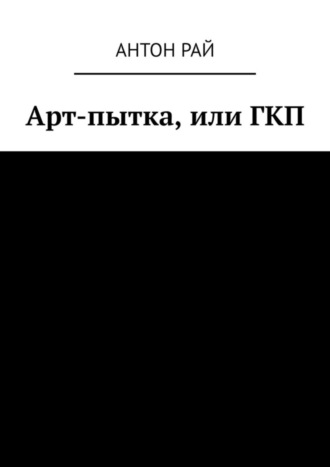
Полная версия
Арт-пытка, или ГКП
Конечно, нельзя. Я и не верю. Да и никто не поверит. Крот.
И между тем всё было именно так. Оправившись от неожиданности, я вступил с бомжом в разговор, обрисовав ему трудности, с которыми столкнулся. Он внимательно меня выслушал, усмехнулся и сказал: «Ничего удивительного. Вы ищите идеальное, утопическое общество, а общество не может быть идеальным. Утопическое общество-идеал вообще скорее пугает, чем привлекает. Забудьте об Обществе. Тогда, может быть, что-нибудь и найдете». Да, так сказал Бомж, – и насколько правильно сказал! Только тут я понял, что для меня было камнем преткновения. Я не видел идеального общества, потому что общество состоит людей; но мне вовсе не хотелось устраивать судьбы всех. Вообще, категория принципиально для меня чужда. Народ живет по своим законам и пытаться как-то изменить эти законы – может быть, это и благородная задача, и наверняка это может быть благородной задачей, но это была явно задача не моя. Например, когда я изучал коммунистические практики, то я видел, что мне любопытен момент, когда формируется партия, но действия партии по приходу к власти мне были абсолютно чужды. А почему? Да потому что партия представляла из себя своего рода воплощение утопической организации, союза увлеченных идеалистов, а государство, как всем известно, при попытках превратиться в нечто утопическое обычно моментально превращается в монстра-левиафана. И опять-таки почему? Да потому что народ можно тащить в идеал только принуждением, а идеал по принуждению всегда превращается в концлагерь. Чем менее идеально государство, чем более оно ограничено, подотчетно – тем лучше для живущих в нем людей. Но я понял, что (как объект управления) меня не интересовали. Пусть они живут, как живут. Пусть занимаются тем, чем занимаются, чем бы они там ни занимались. Томский. из всех народ люди вообще
В общем, тварей дрожащих побоку, нам по пути только с имеющими право. Крот.
Так и знал, что вы это скажете. А к чему там у нас стремятся эти «право имеющие»? Томский.
К власти над муравейником. Крот.
То есть над дрожащими тварями? Томский.
Точно. Крот.
Так разве я вам и не втолковываю, что именно эта модель мне и неинтересна? Именно что поиск утопии-государства приводит к тому, что приходится властвовать над дрожащей тварью. Более того, приходится народ в дрожащую тварь – дрожащую отчасти от страха, отчасти от энтузиазма. Нужно мне это? Нет, не нужно. Прежде чем помещать кого-то в утопию, я должен был ответить на вопрос: а что это за люди, которые мне интересны, что это за люди, которые могли бы жить в утопии? Томский. превращать
Я догадываюсь, каков будет ответ. Крот.
И? Томский.
Это должны быть творческие люди. Крот.
Так нечестно, – конечно, вы знаете, да и все сейчас знают. Но тем не менее это так. Творческие люди – вот кто мне был всегда интересен. И даже если представить себе идеальный мир, – мир, в котором решены все острые социальные проблемы, где нет эксплуатации ни природы, ни человека… – но даже если всего этого нет, один вопрос остается: «А чем нам заниматься-то в этом мире?» Земледелием? Нет, не хочу. Выделкой льна? Опять не хочу. Искусственное молоко производить? Опять мимо. Томский.
Искусственное молоко? А при чем тут искусственное молоко? Крот.
Вот почитаете «Летающего пролетария» Маяковского и поймете. Как бы то ни было, я видел, что каким бы идеальным ни было общество, до тех пор, пока в его основу не положено творчество, я не способен увидеть в нем ничего идеального. А творчество не может быть положено в основу Общества, – творчество может быть положено в основу только какого-то со-общества. Томский.
12. Работа как необязательно-обязательный труд
А почему творчество не может быть положено в основу общественной жизни? В конце концов современное развитое общество уже давно отошло от чернорабочего базиса. Современный рабочий – это не рабочий в старом смысле, а скорее высоко-квалифицированный работник, а всякая работа, требующая высокой квалификации, может быть названа творческой. Крот.
Ну, правильно. Были рабочие, а теперь – работники умственного труда. В том, что вы говорите, не сказать, чтобы совсем не было смысла, и все-таки… Ответьте мне на такой вопрос… Томский.
Что-то я, похоже, чаще отвечаю на вопросы, чем задаю их. Крот.
Простите, если так. И все-таки: когда я у вас спросил – творческим ли трудом вы заняты, вы сначала затруднились с ответом, а потом сказали: «Я всё равно выполняю определенную работу». Значит, вы на свою работу ходите именно как на работу? Томский.
В последнее время – скорее как на работу. Раньше – нет. Крот.
А какой смысл вы вкладываете в словосочетание «иду как на работу»? Томский.
Это значит, что я не очень хочу идти, но приходится. Крот.
Лучше и не скажешь. И как вы думаете, многие люди, вставая с утра, хотят идти туда, куда им приходится идти? Томский.
Думаю, меньшинство. Крот.
А большинство, соответственно, никуда идти не хочет, но предпочло бы дрыхнуть дальше? Томский.
Конечно. Крот.
Но ведь они, то есть большинство, не обязательно идут на завод, верно? А если и на завод, то не обязательно на конвейере стоят? И все равно они не хотят идти на работу. Но если они не пойдут, то жизнь попросту остановится, потому что все не могут делать то, что они хотят, и при этом дорасти до понимания того, что хотеть. Между двумя необходимостями – необходимостью выжить и необходимостью заниматься творчеством – возникает некая компромиссная деятельность, называемая работой. В зависимости от уровня квалификации работника и различных внешних обстоятельств, она может быть больше похожа то на выживание, то на творчество, но по сути она всегда срединна, и главный её признак – отрыв от необходимости выживания при неспособности заняться творчеством. Человек получает возможность выбирать, но он бессилен выбрать должное и потому выбирает работу. Работа – это необязательный труд, становящийся обязательным при неспособности творить. И именно общая работа, и общая именно как работа и сплавляет всякое развитое Общество воедино. Дайте каждому возможность работать – и Общество тут же развалится. В основе любого современного общества лежит понятие «работа», оно узурпирует понятие деятельности как таковой; пишете вы картины или грузите грузы – вы художником или грузчиком. Самый необязательный труд становится единственно-возможным трудом. Работа – бог современного общества, бог дарующий и бог карающий; дарующий право на признаваемую респектабельной жизнь и карающий изгойством всякого осмелившегося усомниться во всеобщей рабочей вере. А ведь вся эта возвеличиваемая работа может быть более или менее выносимой, более или менее интеллектуальной, но она остается работой, то есть чем-то, что человек не стал бы делать, имей он такую возможность. Томский. необходимо не работаете
Сдается мне, что вы рассуждаете слишком по-русски, а у нас в России работа действительно в основном по-прежнему ассоциируется с чем-то принципиально подневольным. Думаю, на Западе это уже довольно давно не так. Как я слышал, в Дании понятие работы в первую очередь связано с самоуважением, и человек, имеющий полную возможность жить не работая, на пособие, тем не менее выбирает работу. Крот.
Это только еще четче подтверждает мой тезис о том, что в основании любого общества лежит понятие работы, хотя и действительно несколько размывает представление о ее подневольности. Я думаю, чуть дальше мы еще вернемся к датской ситуации и рассмотрим ее под другим углом. Пока же, повторюсь, я понял, что Общество мне неинтересно, а в основе пригрезившегося мне со-общества должно лежать творчество. Так я нашел свою утопию. Утопия как сообщество творческих людей. Томский.
Сообщество творческих людей. СТЛ! Крот.
Нет, никакое не СТЛ, а самое что ни на есть ГКП. Томский.
Хорошо, пусть будет ГКП. Итак, мы дошли наконец и до этого странного названия: Глобальная Культурная Поддержка. А до создания сообщества вы занимались бизнесом? Крот.
Да, занимался, – и достаточно успешно. Томский.
Как-то, исходя из всего предыдущего разговора, ваше решение заняться бизнесом кажется странным. Почему вы выбрали бизнес-сферу? Крот.
13. Становление Томского
Да, видимо, рассказываемой мною истории требуется еще и предыстория. У меня, понимаете, было не совсем обыкновенное детство. Я рос гипер-активным мальчишкой, самым большим наказанием для которого была необходимость просидеть два часа сряду с книжкой в руке, а при этом семья-то у меня была самая что ни на есть культурная, что порождало немало конфликтов. Сиди, понимаешь, и читай всякую скукотень, когда во дворе затевается и то и это, и масса всего по-настоящему интересного. Ну невозможно ведь! Я и не высиживал и, к немалому огорчению родителей, всё время сбегал на улицу. Силком меня дома, однако, не держали – говорю же, культурная у нас была семья, насилие не приветствовалось, к тому же подразумевалось, что в школе я всё-таки как-то да образовываюсь, что-то да читаю, – но я читал ровно столько, чтобы не быть совсем уж двоечником, и не больше; при этом, не знаю, что я больше ненавидел – то ли книги, то ли саму школу. Домашних заданий сроду не делал, а каникулам радовался так, как даже и школьники не радуются. Но однажды я что-то очень сильно набедокурил, – как-то прямо гипер-набедокурил. Что я там сотворил, до сих пор не знаю, но терпение родителей лопнуло и меня посадили под самый настоящий домашний арест – аж на целый месяц. Никакой улицы – и это посреди летних каникул! Полная, так сказать, самоизоляция. Но мне-то ну никак дома не усидеть – я ж не просто активный, а гипер-активный. Ну день, ну два вытерпеть можно – да нет, и дня не вытерпеть, какие уж тут два! В общем, побесился я сколько мог, но, повторюсь, видно я что-то и вправду из ряда вон выкинул, потому что родители остались непреклонны в своем решении об изоляции меня от улицы. Что же было делать? Ходил я по своей комнате как свободолюбивый зверь по клетке, а по стенкам клетки полки стоят – с ненавистными мне книгами. Волей-неволей, а взял я первую попавшуюся книгу в руки и стал читать. Всё как-то время проходит. Одну прочитал, две, три. Наверное, с неделю я читал механически, как гоголевский Петрушка: буквы складываются в слова, слова в предложения, предложения в абзацы, а абзацы в главы – и ладно. А потом что-то произошло. Я даже точно помню момент сдвига – я тогда за «Властелина колец» взялся, хотя преимущественно полки были русской классикой заставлены, но вот и Толкиен как-то туда затесался. «Властелин» меня прежде всего своей толщиной привлек (аж 1000 страниц) – я надеялся, что мне его дня на три хватит (а читал я, за неимением других занятий, не меньше чем по 300 страниц в день). Ну, читаю как обычно. Хоббиты там, эльфы всякие, кольцо. А потом вдруг что-то начало происходить, что-то странное и даже немного пугающее. Я вдруг увидел их. Хоббитов, то есть. И Гэндальфа увидел, и Арагорна, и всё, что с ними происходит. Буквы и предложения куда-то пропали – вместо них я увидел то, о чем эти буквы и предложения рассказывают. Тогда я впервые в жизни пережил опыт настоящего чтения, – когда ты перестаешь читать, но начинаешь проживать читаемое. Да, в первый раз такое со мной случилось, а первая любовь, как известно, не забывается, – «Властелин» так и остался моей любимой книгой на всю жизнь. И прочитал я «Властелина» за сутки, – вот как сел читать, так прямо от первой буквы до последней и прочитал. И почти тут же за новую книгу взялся, правда, родители меня силком от неё оттянули – поешь, мол, хватит читать. Дожили – от книги ребенка не оторвать! Оно бы и хорошо, да у меня все без меры выходило. Набросился я, в общем, на книги, как голодный волк набрасывается на тех, на кого он набрасывается, когда голоден. Всю классику запоем прочитал. Думаете, «Война и мир» меня испугала? И не надейтесь! За сутки я вряд ли управился, но за трое суток – это максимум. В сутках ведь 24 часа, а спать гипер-активным мальчишкам вовсе даже и не обязательно. Так и месяц пролетел, и срок моего «ареста» вышел, – я теперь мог законно выйти на улицу. И что вы думаете? Не хотелось мне на улицу! Читать мне хотелось, а на улицу – не хотелось! Но, конечно, я все же на улицу выбрался – друзья там, и всё такое. Помню, какое-то время мне было ужасно скучно вновь втягиваться в нашу обычную, действительную жизнь. Всё как-то не так было… А как – не так? Не так, как в книгах – вот как! Но мое гипер-активное естество брало свое, а оно все же всегда требовало действия, так что постепенно я вновь забросил книги и зажил действительной жизнью, но и удивительного опыта чтения уже не забыл. С той поры я раздвоился. Стоило мне слишком погрузиться в одну из жизней, как я вспоминал о другой и менял сферу гипер-активности. Месяцами я просиживал за книгами, месяцами же пропадая на улице. И всё я не мог решить: где же настоящая жизнь? Что она настоящая и там, и там, но что «настоящее» она всё же в книгах – это я понимаю только теперь. А тогда – нет, не понимал. В сущности же именно тогда из меня и выковался человек действия, но такой человек действия, который не может жить без мира культуры. А еще позже я понял, как сгладить это противоречие – надо поставить свою неугомонную натуру на службу Культуре. Да, я человек действия, я не творец, но, если я что-то и могу создать, то пусть это будет сообщество творцов. Томский. 13
Пожалуй, рассказанная вами история проясняет вопрос о вашей специфической деятельной любви к культуре, но почему все-таки изначально вы занялись бизнесом-то? Крот.
А какой выбор у человека действия? Осваивать какую-то полезную профессию я никогда не хотел: не хотел я быть ни врачом, ни инженером, ни адвокатом (если допустить, что бывают полезные адвокаты). Очевидно, польза как критерий деятельности всегда был мне чужд, – опять-таки, почему это так, стало ясно позднее, но об этом мы еще поговорим. Работать в сфере культуры? Но в культуре я видел себя только писателем, но, слава небу, у меня хватало понимания, что никогда мне писателем не быть. Что еще остается: спорт, политика, экономика. Политикам я как-то с детства не доверял, спортом особенно сильно никогда не интересовался, вот и ушел в бизнес. Методом исключения, то есть, бизнес выбрал, хотя сейчас мне кажется, что в этом и некий высший промысел просматривается. А тогда, строго говоря, и не выбирал я ничего, а просто занялся бизнесом и всё. Поначалу даже интересно было: растущие на счете цифорки, конвертирующиеся в различные блага; отдых во всяческих каннах и монаках; пресловутая, столь необходимая всякому богатому человеку яхта – и ту я купил, и даже был доволен. «Замечательная вещь – деньги», – не раз говорил я себе. Отчасти я так думаю и теперь, хотя теперь деньги для меня означают и совсем не то, что раньше. Но вот странность – чем больше у меня было денег, тем меньше я видел смысла в их дальнейшем зарабатывании. А после того, как я заработал миллиард, жизнь, растрачиваемая на изучение котировок, показалась мне жизнью, проходящей зря, а деньги, расшвыриваемые на покупку яхт, показались мне деньгами, выбрасываемыми на воздух. И все-таки я продолжал увеличивать свое состояние, отчасти по инерции, но отчасти и, верю, ведомый высшей интуицией. Увеличивал, пока не дошел до 10 миллиардов, но потом остановился и задумался. Я уже не очень понимал, зачем мне нужен и миллиард, но 10 миллиардов! 10 яхт купить? Сто? Полная бессмыслица. Томский.
Как и всё в нашей жизни. Крот.
Вовсе не всё. Томский.
Всё. Люди могут придумывать смысл, одурманивая себя, но как такового смысла ни в чем нет. Крот.
Если словосочетание «ни в чем» заменить словосочетанием «в бизнес-активности», то я с вами соглашусь. В занятии бизнесом нет смысла. Вы, конечно, помните ту программу, когда я вдруг ни с того ни с сего засмеялся в прямом эфире. Томский.
Как же не помнить? – из вашего смеха сделали ролик, ставший на какое-то время хитом ютуба. Этот ролик и сейчас нередко припоминают – когда хотят поставить под сомнение вашу адекватность. Крот.
Забавно, что мое сумасшествие пытаются иллюстрировать, припоминая первый подлинно разумный день в моей жизни. Нас тогда в программе было двое бизнесменов, и мы вдохновенно рассуждали о своих бизнесах. Я не хочу и вспоминать о том, чем я тогда занимался, а мой бизнес-собрат продавал пиццу. И вот я сижу, слушаю его, слушаю, как он с важным видом говорит о росте своей компании, о том, как он выходит на новые рынки, о том, как добивается лучшего сервиса для потребителя и прочих вещах в этом роде – слушаю я его, значит, а в голове у меня одна мысль крутится: «Да ведь он всего лишь продает пиццу». Продает пиццу – всего-то лишь!Сидит человек и с важным видом рассуждает о том, как он продает пиццу. И так мне стало смешно его слушать, что я прямо там и рассмеялся. Все эти бизнес-истории возможно слушать всерьез, лишь имея в виду внешний антураж: прибыль, положение в обществе, рейтинги в журнале «Форбс» и прочее, а как дойдешь до сути – чем люди занимаются – так смеяться хочется. Вот я и рассмеялся, – не только над своим собратом, но и над собой, разумеется, тоже; я-то был ничем не лучше его, я тоже продавал свою «пиццу» – с таким видом, как будто делаю невесть что. Собственно, поиск утопии и означал для меня поиск альтернативы моему тогдашнему бессмысленно-роскошному, бесцельно-деятельному бизнес-существованию. И я нашел альтернативу и понял, что имевшихся у меня, казалось бы, бессмысленно-избыточных денег как раз должно хватить для реализации моей мечты. «Замечательная все-таки вещь – деньги!» – в последний раз сказал я себе, осознав их как средство, с помощью которого я мог превратить утопию в реальность. Я и приступил к превращению. Я мечтал о поддержке Культуры? Что же – я стал создавать ГКП. А Культура – это не пицца! Томский.
Та же самая пицца, то есть другая, но все равно… Пища духовная на смену пище телесной, а по сути – та же одурманивающая человека пелена, пытающаяся скрыть притаившуюся за ней бессмыслицу. Крот.
Нет, извините, духовная пища настолько отлична от телесной, что аналогии неуместны. Томский.
Не буду спорить – ведь это тоже бессмысленно. Итак, вы заработали свои 10 миллиардов (наконец-то цифра озвучена! – эфир прошел не зря) и приступили непосредственно к созданию сообщества… Крот.
14. Издательство-утопия
Да, поначалу моя деятельность в основном сводилась к поиску интересных авторов для свеже-созданного издательства, – художественная литература всегда была для меня в приоритете. Так что именно с «ГКП-книги» я и начал. Томский.
Тут у меня сразу же возникает вопрос: чем издательство «ГКП-книга» принципиально отличается от любого другого издательства? Мало разве издательств кругом? Вы говорите о каком-то принципиально новом типе организации культурной жизни, а я вижу, что к массе существующих издательств добавилось еще одно – вот и все. Крот.
Хороший вопрос. Но, во-первых, как вы думаете – все издательства похожи друг на друга, или одни издательства работают с авторами лучше, а другие – хуже? Томский.
Конечно, одни издательства могут быть предпочтительнее других. Крот.
Значит, моей первой задачей и было: создать не просто издательство, но издательство-мечту. Я хотел, чтобы автор не относился к своему издательству просто как к издательству… Томский.
… Но издательство должно было стать для него домом. Крот.
Вы, вижу, не хуже меня формулируете. Томский.
Но это же такая избитая фраза! «Пусть наше издательство станет родным домом для автора!» Похоже на самый дешевый слоган из рекламы. Крот.
А почему это так? Томский.
Потому что это бред. Крот.
То есть дешевизна и бредовость состоит в том, что рекламный посыл никак не соответствует реальности? Томский.
Очевидно. Крот.
А если бы соответствовал? Томский.
То есть как? Крот.
Ну, если бы издательство реально стало родным домом для автора? Томский.
Не представляю себе, как это может быть. Крот.
А вы заходите к нам и посмотрите. Наверное, «дом родной» – это все же перебор, но создать определенную «домашнюю» атмосферу вполне в человеческих силах. Например, я, как глава всего нашего… дома…, так вот, я всегда готов выйти на связь с автором. С любым автором (независимо от степени его успешности) и в любое время. Звоните – и отвечено будет вам. Заходите – и приняты будете. Это неотъемлемая часть моей деятельности – быть максимально доступным для любого члена сообщества (или «сообщника», как мы предпочитаем называть друг друга). И это очень важно. Томский.
Допустим. Допустим, «ГКП-книга» – это хорошее издательство, и даже очень хорошее. Но разве и самое хорошее издательство может претендовать на то, чтобы называться воплощенной утопией? Издательство остается издательством. Крот.
Этот ваш вопрос еще лучше. Но я задам контрвопрос: в чем цель издательского бизнеса? Томский.
Получить прибыль посредством продажи книг. Крот.
Верно. А в чем цель ГКП-книги? Томский.
Это вам лучше знать. Крот.
Лучше. Но вы и сами могли бы догадаться, что для меня не существует такой цели как получение прибыли. ГКП вообще ни в одном своем измерении не является бизнесом. А это опять-таки многое меняет – и как раз-таки в утопическом плане. Издательство, не заинтересованное в прибыли – чем не утопия? Томский.
Пожалуй. Но меня как-то не очень вдохновляет эта картина. Вот если бы я был издателем или, тем более, автором, то я был бы очень даже заинтересован в прибыли. Крот.
Не волнуйтесь, ни один из ГКП-авторов не бедствует. Но здесь-то мы, кстати, и возвращаемся к одной очень важной теме, которая не так давно всплыла в нашем разговоре, но не получила развития. Томский.
15. Аристократическая тайна
Речь идет об аристократическом отношении к действительности. А в чем состоит его суть?
В том, что привилегированное меньшинство ничего не делает, в то время как рабы гнут на него свои спины. Крот.
Да, что-то такое вы уже говорили. А теперь представьте себе… Аристотеля. Томский.
Опять Аристотеля? И почему именно Аристотеля? Крот.
Сейчас станет ясно. Вот он, Аристотель, по-вашему, ничего не делает? Томский.
Нет, он, конечно, что-то делает и даже что-то очень важное, но ведь это не отменят того факта, что рядом с ним существуют рабы, обеспечивающие ему возможность философствовать. Более того, насколько я помню, Аристотель как раз-таки идейно оправдывал рабство. Крот.
Да, это так. . Так говорил Аристотель. Томский. «Одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно и справедливо» 14
Взять бы этого Аристотеля, да за такие слова года на три на Соловки! По-моему, это было бы для него очень полезно, а по отношению к нему – только справедливо. Крот. 15
То есть, по-вашему, нет людей, которых можно было бы назвать рабами по своей природе? Томский.
Нет, таких людей нет. Всякое оправдание рабства «по природе» ведет только к тому, что люди оказываются рабами по факту нахождения в рабстве. «Почему я раб?» – спрашивает раб. Если сказать ему, что он раб, потому что порабощен, он может восстать и сбросить свои цепи. Но если сказать ему, что он раб по природе, то против чего ему тогда восставать? Против своей природы? Нет, рабство по природе – это гнусность и, слава богу, что современному человеку претит сама мысль о чем-то подобном. Крот.
Замечательно сказано! Я даже не знаю, что и возразить вам, тем более, что логический механизм описан вами безупречно. Оправдание рабства – это ужасно. А теоретическое рабство «по природе» на практике означает всего лишь то, что человек, по воле судьбы оказавшийся в рабстве, не имеет права восставать против своей участи. Все верно. Вот только как быть с Аристотелем? Томский.