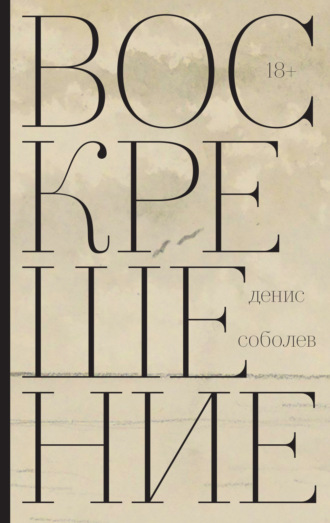
Полная версия
Воскрешение: Роман
Митя делал все, что нужно, а вот сосредоточиться на этом ему никак не удавалось; постоянно пытался отобрать у Кати тяжелые или режущие предметы. А еще каждый раз, когда она отворачивалась, он смотрел на нее; давал себе слово этого не делать и не мог с собой справиться. Было видно, что она все еще немного растерянна, и ее тонкое лицо казалось еще тоньше на холодном весеннем ветру. Работать в перчатках показалось ей неудобным, и Митя начал опасаться, что нагромождениями строительного мусора и непонятных предметов она в итоге руки поранит. Но это же, как ему показалось, исключительно потому, что он ее сюда привел, а значит, был за нее в ответе, давало ему право смотреть на ее руки, тонкие, чуть неловкие, после бессолнечной ленинградской зимы белые почти до голубизны, почти прозрачные. Он вспомнил, как она ему говорила, что практически не способна загореть, только сгорает; а под летним солнцем сгорает быстро и почти до мяса. Митя ловил ее взгляд и думал о ее глазах, внимательных, сосредоточенных, глубоких и одновременно чуть растерянных; он не понимал, как это могло быть одновременно. Катя зачем-то накрасила губы, не очень умело, и ее розовая помада вспыхивала под густеющим весенним солнцем. А еще ему стало казаться, что вся она светится изнутри прозрачным и несокрушимым светом души. Среди человеческого хаоса ее тонкая фигурка в старой дачной куртке на два размера больше казалась ему самым уязвимым и самым устойчивым во всем окружающем мире, и он не мог перестать о ней думать.
– Почему ты на меня так смотришь? – спросила Катя.
– Боюсь, ты поранишься, – ответил Митя, – или кто-нибудь из упитых панков на тебя что-нибудь опрокинет. Это же я немного по дурости тебя сюда зазвал. Честно говоря, я не знал, что все так запущено.
– Наверное, я совсем бесполезная.
Не то чтобы он не думал о Кате раньше, но после этого дня на Мойке Митя понял, что только с большим трудом ему удается думать о ком или чем бы то ни было еще. В школе ему помогала память; он отвечал на вопросы и даже выводил теоремы, смутно понимая, о чем его спрашивают, что от него требуется и что же он делает. После «курсов» предложил Кате немножко пройтись пешком. Она кивнула.
– Куда? – спросила она.
– Я еще не придумал, – неловко и растерянно ответил Митя. Он был уверен, что Катя откажется.
– Пойдем через Михайловский сад.
Они обогнули Этнографический музей и снова вышли в Михайловский сад, к тому самому небольшому пруду, рядом с которым Митя тогда ее встретил, уже больше полугода назад. Несмотря на весну, день был серым, немного туманным, сыроватым; наступали сумерки, смешивающиеся с тонким весенним туманом. Все становилось прозрачным; казалось, что дыхание счастливой земли пропитывает воздух. Митя шел слева от Кати, на полшага впереди, чтобы постоянно видеть ее лицо. Как и тогда на Мойке, ему стало казаться, что в сумерках ее окружает тонкий прозрачный свет, который она сама не осознает.
– Мы знакомы почти столько, сколько я себя помню, – вдруг сказала Катя, – и при этом не так давно. Это не кажется тебе странным?
Странным Мите это не казалось. Но он все равно кивнул. Она ступала чуть медленнее обычного. Митя неловко согнул правую руку в локте, надеясь, что она возьмет его под руку; но Катя либо этого не заметила, либо не поняла смысла его жеста.
– Ты знаешь, – ответил он, подумав, – на самом деле я даже не знаю, сколько мы с тобой знакомы.
– В каком смысле?
– Ты для меня самый близкий человек.
Катя замедлила шаг и удивленно на него посмотрела.
Это было как нырнуть в ледяную весеннюю воду, но в этот момент выбора у него уже не осталось. К тому же Митя довольно давно к этому готовился: несколько недель, а возможно и месяцев, неосознанно или полуосознанно, а всю эту неделю вполне осознанно.
– Я как бы в тебя влюблен, – быстро проговорил он, на одном дыхании.
Катя окончательно остановилась и изумленно на него посмотрела:
– Ты не шутишь?
Митя покачал головой.
– Спасибо, – ответила она с чуть скрываемой досадой, – это очень лестно. Ты очень хороший, но ты не совсем мой идеал.
Он беспомощно пожал плечами.
– Я думала, что мы друзья, – добавила она расстроенно и немного обиженно.
« 5 »Историю с Катей Митя переживал долго и непросто. Ему было больно и немного горько. Поначалу он мучил себя вопросами, что он сказал или сделал не так и что именно ему следовало сделать для того, чтобы все обернулось по-другому. Понимание того, что такого иного, невыбранного, упущенного им пути не существовало, приходило к нему медленно и тяжело, но постепенно пришло и оно. Тогда Митя мысленно оглянулся на тот знакомый и до этого времени практически никогда не вызывавший сомнений мир, мир, который для него Катя в значительной степени олицетворяла, и неожиданно этот привычный мир показался ему маленьким, тесным, душным, запертым ото всех ветров, затхлым, как домашняя кладовка. В этот момент он отчетливо увидел их с Катей жизнь в качестве маленького острова, который со всех сторон омывали волны времени и волны реальности и вокруг которого во все стороны до горизонта раскидывался огромный подлинный океан с его страстями, страхами, свершениями, ошибками, пороками, с его туманной свободой и бесцветным автоматизмом. Митя не начал восхищаться тем, что до этого презирал, но он стал ощущать себя так, как если бы стены его комнаты вдруг оказались сделанными из бутафорского папье-маше, а за ними приоткрылся просторный и неизвестный ему мир. В каком-то смысле он был даже благодарен Кате за это чувство разочарования, озарения и освобождения, с которым пока что толком не знал, что делать, но вот все конкретное, так или иначе связанное с Катей, теперь стало вызывать у него не боль, а неприязнь, раздражение и скуку.
Тем временем в школе произошла история, на первый взгляд малозначимая, но сыгравшая существенную роль в дальнейшем развитии событий. Говорили, что классная руководительница параллельного класса устроила выговор родителям одной девицы, упорно приходившей на уроки с феньками на обоих запястьях. Судя по слухам, что-то такое учителя между собой обсуждали и, видимо, определенную воспитательную работу решили провести, поскольку во время очередного классного часа их классная тоже неодобрительно высказалась о «так называемых неформалах» и о «поведении, недостойном уважающего себя десятиклассника»; как обычно, дурацкие наставления все пропустили мимо ушей. Было понятно, что классная считает, что обязана это сказать, а они были не так уж против все это выслушать, по крайней мере до тех пор, пока ничего практического от них не требовалось. А вот параллельный класс неожиданно взбунтовался. Через несколько дней на перемене посредине едва ли не центрального школьного коридора Митя столкнулся с тремя девицами из параллельного класса, включая и ту, которая послужила изначальной причиной всей этой неразберихи, выкрикивающими хором: «Мы не хиппи, мы не панки, мы девчонки-лесбиянки». Одна из девиц при этом хлопала в ладоши, а другая выстукивала каблуками ритм. Делали они это так задорно, с таким видимым счастьем протеста и свободы, что Мите захотелось немедленно к ним присоединиться. Но сделать это он не успел.
Подобную кричалку он уже когда-то слышал; в том, что эти девицы действительно лесбиянки, он очень сильно сомневался, да это его и мало занимало; так что удивила Митю не сама кричалка, а то, что за ней последовало. Из одного из кабинетов появилась завуч и в тот момент, когда он ожидал, что разразится очередной скандал, сделала вид, что ничего не слышит, быстро повернулась и снова исчезла в кабинете. Прожив всю жизнь в городе, наполненном хиппи, панками, рокерами и прочими пока еще безымянными для него существами подобного рода, которыми до этого момента Митя интересовался мало и которых, по большей части, немного презирал, в особенности за показушность и попрошайничество в подземных переходах, он хорошо понимал, что неформалы существовали и десять, и двадцать, и тридцать лет назад. Но дело было не в этом. Их школьная завуч была для них ходячим воплощением несвободы, почти таким же символом бессмысленной и удушающей дисциплины, да еще и идеологизированной, как районный отдел народного образования с его дурацкими инструкциями, программами и методичками, единственным желанием которого, как им казалось, было душить и запрещать. И то, что именно завуч так быстро капитулировала и ретировалась, по всей видимости, означало, что наступило новое время и это время было временем новой свободы.
Несмотря на изложенное в коридорной кричалке «мы не хиппи», хлопавшая в ладоши девица была явно хиппующей, поскольку буквально через пару недель, как-то поближе к вечеру, Митя встретил ее на Невском во всем прикиде, да еще и с серой холщовой сумкой от противогаза. Как ее зовут, он не помнил, но ошивалась она, как ему показалось, без особой цели, так что он подошел сказать «привет», и они быстро разговорились. Как выяснилось, девицу звали Валей. Она была явно из интеллигентной семьи, и, если исключить приблизительно четверть слов, которых он не понимал, так сказать, на уровне словаря, они говорили на одном языке. Валя объяснила, что должна была встретиться с какой-то подругой «на Климате», но ее «продинамили». Что именно называется «Климатом», он помнил чрезвычайно смутно, а говоря по правде, не помнил вовсе, но решил это не выяснять, тем более что ему было действительно все равно. А вот продолжать болтать с ней хотелось.
– Давай хоть куда-нибудь сядем, – сказал он, оглядываясь на движущуюся в обе стороны толпу.
Валя критически его оглядела.
– Уж больно у тебя цивильный вид, – подытожила она. – Если кто увидит, меня потом застебут.
Митя собрался попрощаться, но Валя вдруг передумала.
– Ладно, – сказала она, – давай приземлимся в Лягушатнике. Туда кто только не ходит. И цивилов там полно.
Против Лягушатника Митя ничего не имел, они купили по мороженому и плюхнулись на широкий диванчик.
– Только Валя – это я для школы, – добавила она с некоторой неловкостью. – Если появятся системные, то на самом деле я Рабиндранат.
– А, – сказал Митя и на всякий случай кивнул, чтобы показать, что все понял. – Привет, Рабиндранат, – добавил он.
Валя церемонно протянула ему правую руку, кажется с пятью феньками, Митя ее пожал, и они засмеялись. Продолжили болтать, сначала о школе, потом обо всем на свете.
– Ты что, вообще не тусуешься? – вдруг спросила Рабиндранат.
– В каком смысле?
– Понятно.
Она задумалась.
– Первым делом надо будет тебя переодеть.
– Прямо сейчас? – спросил Митя. – И это так необходимо?
– Не препирайся. Если я тебя приручила, я за тебя в ответе.
– А когда ты меня приручила?
– Уже полчаса как, – ответила Рабиндранат.
Хотя и с некоторыми усилиями, за следующую неделю переодеть его удалось. Рабиндранат даже сходила с ним в комиссионку, и часть подходящего они нашли именно там. Надев весь прикид разом, Митя посмотрел в зеркало и на секунду почувствовал себя неоправданно счастливым. Вместе с Рабиндранат они пошли на Казань, Митя повалялся на еще холодной земле, с кем-то она его там познакомила, но особого внимания на него не обратили.
– Вот это и есть победа, – с гордостью в первую очередь за свои таланты заключила Рабиндранат.
А вот другие реакции на его новый облик были не совсем такими, как ему бы, наверное, хотелось. Когда он уходил тусоваться на Казань, родители были на работе, а Аря в школе, какое-то у них там было мероприятие, но вот когда он вернулся, все уже были дома. Первой его увидела Аря.
– Так, – довольно неодобрительно сказала она, осматривая его с ног до головы, – ход конем. И давно это с тобой?
Тем временем в прихожую вышла мама.
– Позорище. Как попрошайка в переходе. Смесь бомжа и сумасшедшего.
– Не преувеличивай, – возразил папа. – Хиппи всегда были, есть и будут.
– Гопники тоже всегда были. Но это не значит, что мой сын должен быть одним из них.
Она ушла к себе в комнату и хлопнула дверью.
– А ты знаешь, – продолжил папа, поворачиваясь к Мите, – может, тебе даже и идет. Ты только к Иркиным родителям так не ходи, а то у них инфаркт будет.
Аря громко хмыкнула. Митя чувствовал себя картинкой с выставки и надеялся, что этот досмотр когда-нибудь да закончится. Но еще через несколько дней, возвращаясь вечером, он встретился с Лешкой.
– Охуеть, – сказал Лешка. – Ты что, ебанулся? Чего вырядился как пидор? Мы на Невский ездим таких мочить.
« 6 »Так Митя начал тусоваться. Как это ни странно, проще всего ему дался язык; Митя довольно быстро понял, что у множества знакомых предметов есть и другие названия, и относительно легко начал ими пользоваться. Переименовывание города и мира даже вызвало у него неожиданное чувство радости. Он узнал, что круглый выход из метро «Площадь восстания» называется «Шайбой», переход от Публичной библиотеки в сторону Пассажа «Трубой», а «Климат» – это выход из метро «Канал Грибоедова», у которого все вечно назначали друг другу встречи. С мелочами было сложнее. Только теперь Митя понял, как рисковал, съехидничав по поводу ника Рабиндранат, и как ему повезло, что она не принимала все это вполне всерьез. Смеяться над никами было нельзя, нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. Точно так же, как он понял почти сразу, нельзя было смеяться над энергетикой и магией; хипповский мир был наполнен энергиями, хорошими и плохими, магическими объектами, телепатией, порчей и невидимыми связями. Хуже, чем не поверить в энергетическую связь, было только посмеяться над чьей-нибудь фенечкой; за это можно было легко огрести в глаз. Вообще Митино непонятно откуда взявшееся предположение, что контркультура должна быть способной смеяться, в том числе над собой, не подтвердилось совершенно. Оказалось, что все здесь катят друг на друга бочки, да еще быстрее и хуже, чем цивилы, и месяцами ходят обиженными. Народ ухитрялся разосраться из-за всего, от музыки до портвейна, от телок до вписок. И тем не менее, несмотря ни на что, этот волшебный мир и его, Митина, к нему принадлежность покорили его быстро и, как ему казалось, навсегда.
Из этого нового волшебного мира он особенно отчетливо ощущал, насколько окружающий цивильный мир, мир заработков, карьер и покупок, был одновременно удушающим и вызывающим презрение. Мите нравилось больше к нему не принадлежать, смотреть на него свысока и над ним смеяться. Даже на родителей он смотрел немного иначе.
Про Сайгон Митя, разумеется, давно слышал, но никогда там не оказывался, и поначалу никакого впечатления на него Сайгон не произвел. Если он что и напоминал, то больше всего привокзальную забегаловку. По первому ощущению здесь было людно, тесно, душно и довольно бессмысленно, а столики были просто чудовищными по потрепанности, неудобности и отсутствию стульев. Так что пипл устраивался на подоконниках. Но так было по ощущению, именно что по первому; на самом деле за всем этим был скрыт огромный мир, да еще и растянувшийся на десятилетия. Недалеко от входа стояли столики пониже со стульями; как объяснили Мите в первый же его раз в Сайгоне, кажется та же Рабиндранат и объяснила, там тусовались все великие, от Бродского до Б. Г. А вот дальше были расставлены те чудовищные высокие столы, за которыми в основном и распивали, в том числе и тот самый легендарный «маленький двойной». Распивали там и много чего еще, но уже по большей части из-под полы, тем более что и антиалкогольная кампания еще не кончилась. Кофе, конечно, распивали не только из любви к Хэму, Сартру и парижским кафе; под «маленький двойной» и особенно «большой четвертной» особенно хорошо шли колеса. А уже потом можно было завалиться на подоконник и кого-нибудь общать, а то и просто втыкать.
Народ болтался здесь самый разный: рокеры, конечно, – рок-клуб на Рубинштейна был практически напротив, такие, как Митя, городские хиппи, просто прихиппованные, особенно девицы, панки, по большей частью из предместий, а системные, часто искавшие вписку, кто на день, а кто и на месяц, так и вообще почти со всей страны. Иногда заходили кришнаиты и всякие прочие йоги. Удивительным образом, хиппи и панки сосуществовали чаще мирно, чем наоборот, хотя ходили слухи про гопников, которые специально приезжали в Сайгон, чтобы мочить западную плесень. Согласно многократно рассказанному, при виде гопников хиппи пытались быстро свалить, а вот панки вроде бы как раз веселились, и вот тут уж не везло как раз гопникам. Поскольку, в отличие от большинства рассказывающих, в драке с гопниками участие Митя принимал, он сомневался, что драку между панками и гопниками можно было устроить на углу Невского и Владимирского, но свои сомнения оставлял при себе, не спорил и покорно слушал. Истории вообще рассказывали многократно и редко помнили, кому и какие. Часто один и тот же пряник мог в десятый раз грузить то ли новых, то ли тех же самых собеседников одной и той же телегой. Но случалось и наоборот, и телегу, выкаченную накануне, можно было услышать от совершенно незнакомого персонажа, который, разумеется, приписывал ее себе, да еще и обросшую массой новых, часто неожиданных подробностей.
В том же дальнем углу Сайгона, чаще за столиками, но и на подоконниках, иногда тусовались фарцовщики, пытавшиеся сбыть за, как тогда казалось Мите, нереальные деньги всякие выклянченные у иностранцев или выменянные на комсомольские значки предметы. Несмотря на то что, судя по рассказам, золотой век фарцовки в Сайгоне давно прошел, здесь до сих пор продавали самые неожиданные вещи, от пластинок и книг об индуизме до забугорных лифчиков и пластиковых бус, хотя выбор и не был таким большим, как на первом этаже Гостиного двора, который называли «Галера». Для более серьезной фарцовки договаривались о местах менее затоптанных. Довольно размытая граница между миром протестной культуры и тем, что еще недавно казалось Мите всевозможной уголовщиной, что по части фарцовки, что по части масти и ширева, да и не только, поначалу ему изрядно мешала, но потом Митя списал это на собственную ограниченность и цивильность, представил себе, какое выражение лица было бы у Кати, если бы он обо всем этом ей рассказал, порадовался, даже мысленно рассмеялся, постарался привыкнуть и в целом ко всему привык. Привык настолько, что начал сам рассказывать, как был в Индии, где его папа работал референтом, и как одно время даже жил в ашраме. Его начали замечать и относиться с большим уважением. Но на гитаре он не играл, и вот это его позиции сильно подрывало. Несмотря на декларируемую практически всеми любовь к музыке, умение играть на фоно в этом смысле не прокатывало совершенно.
На самом деле Сайгон был старым, а к тому времени, наверное, уже и устаревшим центром целого мира, устроенного похожим образом, где тусовались те же самые или похожие на них персонажи. В теплые месяцы на Казани встречались и тусовались, а в летние часами валялись на траве, как раз вокруг Кутузова и Барклая де Толли, играли на гитарах. На Трубе и Климате грелись в более холодное время; в Трубе еще играли и аскали, на Климате не играли почти никогда, там было негде, да и аскали редко. Эльф был похож на Сайгон; от Сайгона до Стремянной идти было всего ничего, если не ползком, конечно; там было менее легендарно, зато гораздо живее, а в Эльфийском садике регулярно что-нибудь да происходило. Тяжелый серый фасад дома странно контрастировал с разноцветными хипами и панками из Эльфа. Перед походами в Рок-клуб, где вечно не было мест и попасть куда считалось большой удачей, тариться портвейном полагалось в Гастрите, который был аккурат напротив Сайгона, на углу Рубинштейна, на полпути до Рок-клуба. На самом деле портвейном там тарились и безотносительно. Но главным было даже не все это; главным было то, что вокруг этого во многом символического центра по всему пятимиллионному городу были разбросаны сотни флэтов. На флэтах жили и вписывались, трахались и ругались, пили и кололись, играли на гитарах и писали стихи. В поисках вписок приезжие иногда по полдня шастали по треугольнику Сайгон – Эльф – Гастрит; у входа в Сайгон подолгу зависали; Мите их было жалко, но вписать кого бы то ни было у них дома было совсем уж нереально.
А вот с тем, что пипл называл музыкой, у Мити сложилось не очень, и высокохудожественными ему эти произведения не казались. Общий драйв рок-клуба, конечно, захватывал, но по большей части все это было уж слишком серьезно, а временами еще и надрывно; при этом как раз слова обычно было лучше не слышать. Что самое обидное – сказать об этом было невозможно; подобного тусовка не прощала. На Трубе тоже играли, но обычно очень так себе, да и толпы проходивших в обоих направлениях в сочетании с асканьем как-то не способствовали. Но было у Мити и любимое место – Ротонда. В основном там просто тусовались, но уже без серой тесноты легендарных общепитов и растерянных приезжих, не говоря уж о фарцовщиках. Так что и общались там немного иначе, хоть и не без телег, конечно. В холле Ротонды, окруженном гигантской винтовой лестницей, была отличная акустика. Когда пели, пели проще, жестче и прямее, без той позы, которая к тому времени уже выработалась в Рок-клубе. А вот пьяных и обдолбанных было больше; часто валялись прямо на полу, но по-хорошему. Гопоты не было совершенно. А еще среди пипла на Ротонде острее ощущалась атмосфера фрилава. Почти всегда здесь было много отличных девиц, своих в доску, включая Митину первую женщину, хотя, как он выяснил впоследствии, как раз его она практически не запомнила.
« 7 »Где-то почти в самом начале Митиного тусования на Ротонде он познакомился с девицей по имени Урда. Почему ее так звали, она не объяснила, а спросить Митя постеснялся. Не то чтобы она была олдовой, даже близко нет, но все же была чуть старше его и казалась значительно опытнее. Потрепались, послушали музыку, выпили, чем-то Урда вроде даже закинулась, но по мелочи; никаких серьезных изменений Митя в ней не заметил. Ее родители работали на Шпицбергене, так что в ее распоряжении была целая квартира.
– Так у тебя теперь флэт? – заинтересованно спросил Митя.
– Еще чего. – Она даже фыркнула.
Когда начали расползаться, Урда спросила Митю, нужна ли ему вписка.
– Спасибо, – сказал он. – Я же ленинградский.
Его немного удивило, что после всех их разговоров она уже забыла даже это. Урда критически провела по нему взглядом.
– Тебе нужна вписка, – заключила она.
– Почему?
– Ты как картинка с выставки. Как тот хиппи, будешь ночью из кастрюли лапшу руками есть.
Митя попытался объяснить ей, что она ошибается, но Урда была непреклонна. Ему почему-то показалось, что она пытается выглядеть пьянее, чем была на самом деле. Но спорить ему было тяжело, язык немного заплетался; в этом она была права. Так что он поехал вписываться к ней. По дороге еще потрепались, и Митя увидел, что Урда почти окончательно протрезвела.
Едва заперев дверь, она начала сбрасывать одежду на пол; сначала верхнюю, но на этом не остановилась. Урда не была толстой, даже полной, скорее просто крупной; крупные руки и ноги, большая грудь, широкие скулы.
– Вперед, – сказала она. – Ты вообще собираешься раздеваться?
Мите было неловко. До этого он и целовался-то всего пару раз, да и то с давно знакомыми соседскими девицами, с которыми тусовался еще в гаражах. Серьезно это не было. Но что мог, он сделал, может быть не сильно блистательно, но, как ему показалось, и без тех катастрофических провалов, над которыми издевались девицы на тусовке. В особом восторге Урда, похоже, не была, хотя пару раз вскрикнула и чмокнула его вроде бы с искренним теплом. Сказала, чтобы заваливался на родительскую кровать в соседней комнате, и почти сразу же срубилась. Митя вышел в небольшую проходную комнату, оделся. Почему-то ему очень хотелось есть. Открыл холодильник, нашел кастрюлю с макаронами и, действительно, чуть было не начал хавать их руками. Потом вдруг вспомнил и побежал искать телефон.
– Очень рада тебя слышать, – сказала мама голосом без малейшей нотки радости.
– Прости, пожалуйста. Мы тут пели и общались, и я как-то не заметил времени. А сейчас еще и метро закрыли.
– Так вы уже допели?
– Не совсем еще, но те, кто живут рядом, постепенно расходятся.
– И что ты собираешься по этому поводу делать?
– Надеюсь, найдут, где меня положить. Здесь большая интеллигентная квартира.
– Охотно верю, – ответила мама. – И избранное общество. Почти аристократическое. В подобных местах оно всегда такое. Главное – в него попасть. Большое тебе спасибо, что позвонил сегодня, а не через неделю.
Митя растерялся и промолчал.
– Спокойной ночи, – сказал он.
– Как скажешь. Спокойной ночи и тебе. – Мама повесила трубку.
Митя вернулся к макаронам, все-таки вывалил их на тарелку, поискал нож и вилку, вспомнил, что нож не нужен, не нашел ни того ни другого и все-таки съел лапшу руками. Тихо вымыл за собой тарелку. Заходя в спальню Урдиных родителей, он почувствовал себя крайне неловко, но при виде комнаты понял, что вписывались в ней и до него. И, вероятно, вписывались немало. Завалился на шершавое покрывало. Первый раз в жизни попытался уснуть, не раздеваясь, но из этого ничего не получилось. Тогда он снова включил свет, открыл платяной шкаф, нашел постельное белье, постелил, даже вставил одеяло в пододеяльник, забрался под него и почти мгновенно уснул.



