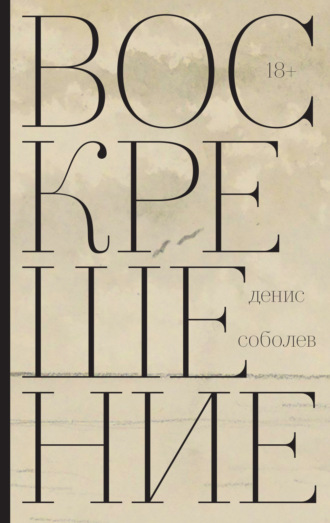
Полная версия
Воскрешение: Роман

Денис Соболев
Воскрешение. Роман
Эден, которая не выжила
Человек подобен пауку, который живет в сотканной им паутине.
Айтарея УпанишадаDeus conservat omnia.
Часть первая
ПРОСТРАНСТВО
Я говорю о камне, говорю о солнце; я не воспринимаю их сейчас своими чувствами, но образы их, конечно, тут, в моей памяти. Я называю телесную боль – а ее у меня нет, ничто ведь не болит… Я называю числа, с помощью которых мы ведем счет, – вот они в памяти моей: не образы их, а они сами.
Августин « 1 »Конец октября выдался холодным и сумеречным. «Высота волны по востоку Финского залива», – бесцветным голосом проговаривало радио, а ветер изо дня в день все больше набирал силу, наполнялся промозглой влагой, рвался под одежду, шелестел по улицам, звенел мусорными баками и водосточными трубами. Постаревшие листья, еще недавно с шорохом катившиеся по земле, размокли и все крепче прилипали к слякоти городских газонов и серо-коричневой набухающей водой земле. Серое, с какими-то бурыми пятнами небо опускалось все ниже, а речную, чуть пенящуюся воду несло на запад, под высокие мосты, мимо широких набережных и сквозь дельту ветвящихся протоков. Как-то быстро, почти скачком, дни наполнились мглою и стали заметно короче, а одежда – длиннее и плотнее, постепенно превращаясь в зимнюю, утолщаясь шерстью и мехом. И все же это была еще осень, осень со всеми ее странными несоответствиями – и последние короткие юбки соседствовали в ней с тяжелыми меховыми шапками. Утром было темно, и сумерки наступали еще днем. А с запада над бурной водой залива, вдоль реки, по набережным, улицам и крышам, мимо особняков и краснокирпичных заводских стен дул этот мокрый промозглый ветер, который, казалось, был всегда и которому, казалось, никогда не будет конца.
Но однажды утром все стало иначе. Выглянув в окно, дети увидели, что крыши домов побелели; побелели газоны и безлистные кроны деревьев, побелели стоявшие у подъезда автомобили, и на окнах засветился тонкий слой инея. За одну ночь небо поднялось и высветлилось, а утром даже засияло синевой; потом все снова потемнело, поблекло, посерело. Пошел мелкий снег, увязая в порывах ветра, снова прекратился. И все же на следующее утро шел настоящий густой снег и, падая на землю, больше не таял. Прошло несколько дней, ветер постепенно стих; а снег продолжал падать; начали появляться первые сугробы. Снег больше не кружился в ветряных порывах, не бил в лицо, но падал медленно и почти отвесно. Он падал вдоль Балтийского моря, от могилы Канта на дальнем западе до покрытых соснами и северными елями почти безлюдных скалистых островков Выборгского залива, мелкий ранний снег падал вдоль длинных песчаных пляжей и прибрежного мелководья, на крыши закрытых кафе, где еще совсем недавно сытые курортники проводили время в поисках коротких знакомств и вели многословные разговоры о преимуществах «европейского образа жизни». Снег падал на толстые крепостные стены Новгорода и Пскова, на широкие равнины, холмы и давно уже поредевшие леса, падал на панельные городские многоэтажки, теплеющие избы и опустевшие дачи, его собирали ручьи, а Волхов нес его к белым стенам Ладоги, первого из городов русских.
Озеро снова штормило; серая ладожская вода набрасывалась на берег, как если бы она пыталась добраться до лежавших на берегу лодок; озерный ветер дул сильно, порывисто, настойчиво, холодно. От Свирской губы на западе до деревянных церквей Онеги все было покрыто толстым слоем свежего снега; было безлюдно, но светло; огромные северные избы смотрели на полупустые дороги четырехоконными фасадами с белыми рамами, отгородившись от мира длинными рядами уходивших от дорог темных бревенчатых стен. От Белого моря до петляющих верховий Волги, от хибинских скальных цирков до Владимира на Клязьме и игрушечных церквей Ростова, от Смоленска до Великого Устюга вдруг наступила пронзительная тишина ранней зимы. Черные деревья поднимались над холмистыми сугробами; белели крыши; южнее хвойные леса постепенно сменялись лиственными, и на голых ветках лежали большие хлопья снега. Редкие трактора расчищали пустые дороги, и их снова засыпало снегом. Белоозеро наполнилось теперь уже совсем земной, видимой глазом белизной. Темно-белое небо отражалось в побелевшей воде; разделенные черной полосой леса за спиной, небо и вода смыкались впереди; прибрежный пляж был покрыт толстым снежным слоем, от которого на десяток метров мелководья тянулась полоса пятнистого неустоявшегося льда. Некоторое время они ехали вдоль озера, вдоль дороги снова заскользили избы, церкви, заснеженные деревенские причалы. Потом вернулись; выехали из городка; но через час опять остановились. Здесь было еще более снежно и безлюдно. Облупившиеся монастырские стены, кирпичные проплешины и церковные купола отражались в подступившей белизне мира.
«Ох ты, зараза, как приморозило», – сказал один из заезжих археологов. «Ну, значит, приморозило, – ответил его товарищ равнодушно. – Незачем сюда было снова ехать, давно пора домой; и ребенок, как ты знаешь, у меня маленький». – «Сейчас бы еще покопать, – сказал еще один. – Вот она разгадка, вот она проклятая». – «Нет тут никакой разгадки, – ответил второй чуть раздраженно, но и наставительно. – И загадки тут нет. В этом мире вообще с разгадками плохо, да и с загадками не очень. Вот он такой, привыкайте». Четвертый же стоял молча, опустив плечи, слушая и почти не слыша, потом потер бороду, поправил тонкую шерстяную шапку, снял очки и зачем-то на них подул. Он смотрел на монастырскую стену, как смотрят на книгу, в которой не нашлось ответа, – сосредоточенно, раздумчиво, без недоверия, без раздражения, но и без страсти. «Это мы, наверное, еще узнаем», – устало сказал он. А бесконечное прекрасное белое небо нависало над ними так низко, что почти касалось лесных верхушек; и неожиданно стало совсем тепло.
« 2 »Белое и черное; белый снег и белый лед Белоозера; черные избы, многие из них ветхие, точнее и не черные вовсе, но кажущиеся на белом. Так и мы склонны оценивать себя в черном и белом, думал бородатый, снова почти инстинктивно поправляя вязаную и уже не по погоде тонкую шапку, ходить по свежему снегу, топить по-черному, проявлять чудеса милосердия, самозабвения, самопожертвования и злодейства. Но это за Вислой для любых злодейств и предательств легко находятся удобные слова, душевный покой и сытость. Мы же живем на белом, на холодном, почти что без тепла сытого довольства; поэтому и разрываем душу в раскаянии, а измучив себя, надорвавшись, снова бросаемся в воображаемые объятия тех, кто нас убивал. Нас убивали и, вероятно, еще будут убивать. И орды с запада, и орды с востока, и наши собственные чудовища. Может быть, поэтому светлые времена кажутся нам пустыми – или это мы сами делаем их пустыми? И все же, где же теперь они все, эти чудовища, и нами самими выращенные, и пришлые, – сгинули и живы только нашей памятью, нашими заблуждениями и нашим самообманом? Мы же, отрывочно думал он, ищем справедливости и милосердия; их не находим; но если не найдем их мы, то не найдет и никто другой. День всех душ.
«Лермонтов считал, – как-то рассказывала детям бабушка, – что мир делится на запад, восток и север». Наверное, это так. Живущий на севере знает и запад, и восток и не верит им; живущие на западе и востоке считают, что севера не существует; им важно так думать. Наверное, заблуждаются они все, но некоторые меньше. В тот уже праздный день, когда четыре археолога смотрели на занесенный снегом раскоп, пошел мелкий теплый снег; он шел почти отвесно. А следующим вечером они были на обратном пути в Ленинград.
– Новый, чужой, утопический, вымороченный город, на большой кровью захваченной земле, – со страстной, длящейся, но и привычной, как бы выученной неприязнью говорил тот из них, которого они с чуть снисходительной нежностью звали Сережей, и продолжал: – Нарисованный на карте нелюбящей равнодушной рукой. Нет хуже русских, чем те, что мечтают быть голландцами.
– Да нет же, – ответил ему бородатый Алексей Викторович, чуть его старше; ответил, едва ли не морщась от только что услышанной знакомой, многословной и, как ему казалось, навязчиво поверхностной риторики. – Конечно же нет. Петербург выстроен в центре нашего севера, на нашей собственной изначальной, чуть забытой земле, ненадолго у нас украденной во время той давней гражданской войны семнадцатого века. Только нам всем не только об этом, нам, наверное, еще много о чем предстоит вспомнить.
– Новая Ладога? – мысленно соглашаясь, но и чуть насмешливо переспросил третий; его звали Андрей.
Алексей Викторович кивнул.
– И первый из русских городов, – добавил он.
– Ладога не была славянским городом, – упрямо пробормотал Сережа и осторожным, но и чуть агрессивным взглядом поискал поддержки у собеседников.
Безбородый Саша молча развел руками, потер щеки, потом шапку.
– Это еще здесь при чем? – спросил он, чуть подумав. – Прошлое темно, и не только из-за нашего незнания. Толпы уголовников, убивающих, режущих, грабящих, насилующих. Замки их, дружины княжеские, орды; все одна сволочь. Да и будущее, наверное, не фонтан.
– А, – обиженно ответил ему Сергей. – Что мы тебе, славяне.
Андрей коротко посмотрел на него, на этот раз с изумлением, и неожиданная горечь как бы совсем чужой статичной картинкой увиденного будущего на секунду вспыхнула в его взгляде. От неловкости все замолчали.
– Ты бы постыдился, – после короткой паузы сказал Сереже Валера. – Позорище. И вообще развели тут схоластику от науки. Окно из Европы, сердце севера, мы славяне; не слышали бы мои замерзшие уши.
Остановился, потом продолжил:
– Потому что надо работать. А мы бездельники, и все. Как только перестаем быть учеными, так и становимся болтунами. Нам просто не хватило времени. Покопать бы там еще. Рядом же она, тайна. Знаете об этом, поэтому и собачитесь, поэтому и землю делите. Доделитесь. Делите между собой, а доделят чужие. Чужие свои и чужие чужие. Будете потом локти кусать. Если ума хватит.
Андрей кивнул, то ли с согласием, то ли для того, чтобы прервать спор, все больше казавшийся ему отвратительным.
– Простите, ребята, – сказал Сергей, подумав, но и как-то нехотя. – Занесло меня куда-то не туда.
« 3 »Снег все еще шел, шел по всей бесконечной лесной перерезанной реками равнине, от Балтийского моря до Уральских гор, вдоль широких рек, текущих на юг; эти реки собирались в великую реку, и на далеком юге было так тепло, что снег таял, таял еще падая, и стекал в дальнее невидимое море. Они смотрели на кружащийся падающий снег сквозь двойные рамы, сквозь стекла, покрытые тонкой, почти прозрачной изморозью, густеющей по оконным углам. Арина сидела на широком подоконнике, полуспиной к окну, изогнувшись, заглядывая в светлое серое небо, оборачиваясь назад в комнату, а ее брат стоял рядом, прижав колени к батарее парового отопления, почти касаясь лицом стекла, погрузившись взглядом в широкий открытый прямоугольник двора, высокое каре новостроек, ряды деревьев внизу под ногами.
– Когда вернется папа? – спросили они тогда бабушку, и Арина, как во сне, потом много лет, раз за разом, вспоминала ее посветлевшее лицо.
– Уже скоро, – ответила бабушка неожиданно строго. – Но вы не должны спрашивать об этом каждый час. А завтра мы еще поедем на дачу.
– Почему он вообще уехал? – продолжала настаивать Арина. – Разве нам плохо здесь вместе?
– Потому что человек не хомяк и он не может жить в клетке или в норе, – ответила бабушка, а брат повернулся к ней лицом и спиной к окну. – И потому, – продолжала бабушка, – что человек жив делом, которое делает, и не может жить без него.
– Но ведь он мог бы делать свое дело дома, – рассудительно ответил брат, и Арине показалось, что он прав.
– А еще, наверное, – добавила бабушка, немного подумав и вдруг как-то неловко и устало улыбнувшись, – потому, что вы тоже здесь родились и уже знаете, как весной трещит лед и уплывает в холодное море. Еще немного – и вы тоже станете чувствовать за собой землю, у которой нет края, и будете знать, что человек жив своим делом и дорогой.
– Мы тоже будем уезжать и возвращаться? – чуть удивленно спросила Арина, безо всякой причины мысленно переходя на сторону бабушки.
– Возможно, – ответила бабушка. – А может быть, и нет. Но вы всегда будете знать, что живете между морем и дорогой. Человек не может жить клеткой, едой и размножением в клетке.
– А хомяк? – спросил брат. – Хомяк точно может? Почему мама не хочет купить нам хомяка?
– Как так получается, что рождаются на севере? – спросила Арина. – Я могла бы родиться иначе?
– Так по-русски не говорят, – сказала бабушка. – Хотя да, конечно. Я, как ты говоришь, родилась иначе. Наверное, в чем-то мы можем выбирать. Хотя вы, скорее всего, уже не сможете выбрать.
– А папа? – спросила Арина. – Папа сделал, он сделал свое дело? Ради которого поехал по этой дороге? Там за окном, за снегом, ты там была?
Бабушка снова посмотрела на нее, поначалу молча.
– Думаю, что да, – ответила она. – Хотя, наверное, не совсем. Когда он звонил, то сказал, что они нашли нечто удивительное. Я спросила что, а он засмеялся.
– Что же это было? – спросил брат.
Бабушка снова промолчала и неожиданно включила радио. По радио говорил голос жесткий, отчетливый, неприятный; но он говорил так, как говорили у них, ясно, проговаривая каждую букву, вычерчивая каждое «ч», как будто говорил и не с людьми вовсе, а с самим временем, которому нет дела до мелких человеческих слабостей, говорил не так светло, чуть напевно и чуть суматошно, как добрые московские бабушки, и совсем уж не так, горланя, цокая и крича, как говорили на платформах торговки яблоками по дороге на ту самую дальнюю, лишь однажды и бывшую, дачу на берегу теплого моря. И все же голос говорил непонятно, как бы эхом повторяя странные, захватывающие, пугающие слова: Луанг-Прабанг, Вьентьян, Сайгон.
– Что это такое, луан про бан? – спросил брат.
– Это далеко, – ответила бабушка. – Там не так давно была война и людям было очень плохо. На них падали бомбы, как когда-то на нас, по квадратам, а еще их сжигали в лесах. Их леса называются джунглями.
– Как в «Маугли»? – удивилась Арина.
– Тогда почему нам про них рассказывают? – снова спросил брат. – Это же страшно.
Арина внимательно посмотрела на бабушку.
– Потому что мы тоже должны знать, когда другим людям плохо, – ответила та. – Потому что помнить об этом – это то, что делает нас людьми. И еще потому, что, если бы они не устояли, скорее всего война снова пришла бы к нам.
– На них тоже напали немцы? И на Маугли? – Брату неожиданно показалось, что все стало ясным, прозрачным почти до боли. – И они снова убивают евреев?
Бабушка покачала головой.
– Тогда наша дорога туда? – спросила Арина. – И там тоже идет снег?
– Нет, – ответила бабушка, снова задумавшись, как-то беспричинно отвлекшись. – Наверное, там никогда не бывает снега.
Скрипнула дверь; вошла мама.
– Выключите это немедленно, – сказала она. – И так голова болит, а тут еще эта бредятина. Что там еще? О чем вы говорили?
– Когда папа приедет, – полувопросительно-полуутвердительно ответил брат.
«Он почти всегда так делает, – подумала Арина, – он ее боится. А я не боюсь».
– О дороге, о снеге, о севере, – ответила она отчетливо, посмотрев маме в глаза, стараясь подражать ясному голосу радио. – О хомяках, о змеях, о джунглях, о луан пробане.
– Восхитительно, – сказала мама, бросив на бабушку взгляд, полный сердитости, без слов, Таким взглядом она смотрела на Арину, когда та клала локти на стол или когда, не разуваясь, вбегала в комнату, оставляя за собой почти невидимую полоску следов. – Значит, у нас тут политинформация. Я просто счастлива за моих детей. Именно для этого я их и рожала. Если останешься до вечера, можем вместе включить «Голос». Может, для разнообразия, узнаешь хоть слово правды. Хотя бы из общего любопытства. Пока нас всех еще не посадили в дурку.
Мама развернулась, почти на кончиках пальцев, выпрямив спину, молча, и вышла из комнаты.
Бабушка села на стул, на секунду опустила голову, ссутулилась, потом посмотрела прямо, расстроенно, тяжело.
– Они бомбили нас по квадратам, – сказала она. – Мы знали по шуму взрывов, если это было не в нашем квадрате. И тогда не прятались. Был голод, вы же знаете, очень хотелось есть. Все умирали. Нас вывезли по льду. А потом, когда мы вернулись, половины дома уже не было.
– Это было давно? – спросила Арина.
– Да, очень, – ответила бабушка. – Очень давно. Это был совсем другой мир. Твоя мама его не застала. Уже больше тридцати лет назад.
« 4 »Взгляд чуть напряженный, но и легкий; ему почти никогда не удавалось догадаться, о чем она думает; или, может быть, думает о нескольких вещах сразу; или ни о чем. Как в поезде, когда лежишь на верхней полке и думаешь ни о чем. Потом посмотрела на кончики пальцев.
– Аська, – повторил Андрей и снова потер бороду, – ты меня слушаешь? Вот так мы ее и нашли, но совершенно непонятно, что это значит. И значит ли что-нибудь вообще. Может быть, это главная находка моей жизни, а может, и вообще ничего.
– Все что-нибудь да значит, – сказала Ася, поднимаясь почти бесшумно и столь же бесшумно отставляя стул. – Но разве это так важно? В конце концов, важно то, как мир устроен, а уже потом – как оно было или не было. Во дворе залили каток, ты видел? Пойдем кататься, как когда-то. Ты ведь любил кататься? Я правильно угадала?
– Как когда-то давно прошло, – ответил Андрей с недоумением. – Тебе еще куда ни шло. Хотя там одни дети и подростки. А я, между прочим, кандидат наук. – Он засмеялся с напряжением и неловкостью, как бы подчеркивая осознанную наигранность сказанного, отчего получилось еще хуже. – Да и кататься я никогда не любил.
– Пойдем, пойдем, – настаивала Ася. – У нас же с Иркой практически один размер. Ее коньки мне, наверное, подойдут.
– Она тоже не любит кататься, знаешь же, – ответил Андрей. – Вот дети подрастут, будем кататься с ними. Ну или на санях.
– Ты знаешь, через две недели приедет тетка из Хмельницкого, – сказала Ася, неожиданно меняя тему. – Мама говорит, что тетка, как она выражается, хочет подзакупиться. И все время будет у нас жить. Ты представляешь, какой ужас? Она станет сидеть на кухне и разговаривать. И это придется слушать. В большой комнате будет филиал Гостиного двора. Почему бы ей не пожить еще и у ваших? Помощь родственникам – благое дело. Обязанность строителя коммунизма. Приближает спасение души. Короче, теткой надо делиться. Может, она у вас с Иркой поживет?
Андрей неопределенно помычал, а Ася засмеялась.
– Испугался, а? – продолжила она довольно. – Не каждый день тебе хмельницкую тетку предлагают? Душно тут у тебя. Пойдем вылезем. Не хочешь кататься, так хоть постоим посмотрим. Тепло же еще.
Они оделись и вышли на почти пустое пространство между недавними новостройками, которое по привычке все еще называли двором и про которое говорили «пойти во двор». Было действительно тепло, и даже ленинградское небо, неожиданно непривычное, несумеречное, почти что незнакомое, светилось редкой для ранней зимы звонкой голубизной. Но снег уже лежал густым покровом; на катке он был расчищен и навален по периметру льда тяжелыми, почти метровыми сугробами. Было неожиданно людно.
– Ты видишь, – сказала Ася, – они катаются. И ничего. Никто из них не говорит, что кандидат наук.
– Они катаются с детьми, – объяснил Андрей упрямо. – А мы два взрослых идиота. Что мы будем делать на катке?
«Первый день настоящей зимы, – мысленно повторяла Ася. – Первый день. Как же надоела эта осень». Она чувствовала какое-то необъяснимое внутреннее сияние, как будто весь мир лежал перед ней, наполненный иллюзорной самодостаточностью и неизменностью. Катающиеся шли, бежали, скользили, описывали круги и витиеватые узоры, падали, поднимались. «Вернусь домой, – подумала она, – и сразу же пойду кататься. Даже одна. Хотя что же это на меня нашло».
– Ты стал очень взрослым, – сказала она Андрею и посмотрела на свое теплое дыхание, медленно поднимающееся между ней и миром.
Ася вышла на лед, стараясь ступать маленькими шагами, помнить о своих каблуках, несколько раз увернулась от бегущих, отошла на самый край, но правая нога все же не удержалась, проскользнула, и она упала на колено. Когда Андрей подбежал к ней, Ася уже вставала, взволнованная, раскрасневшаяся, с болью в ноге, но почти счастливая. Весь окружающий мир вдруг показался ей незнакомым и незнакомо значимым.
– Вот так идти, идти, – говорила она, – и не упасть. Ты видишь, они катятся, бегут и не падают? Или падают? Или встают, как я? Представь себе большой, большой каток, – продолжала она взволнованно. – И они, мы, все бежим, падаем. И мы ли это? И что происходит с теми, кто падает и не поднимается? Ох черт, мне кажется, я подвернула ногу. Посмотри на меня. Я нормально иду? Как тебе кажется, я сильно ударилась? Больно, но как-то непонятно. Проводишь меня до дому?
Андрей подумал, что сначала надо дать ей прийти в себя, и они вернулись к нему. Точнее, к ним с Иркой, поправил он себя. Ася сидела у них на кухне, какая-то оглушенная, огорошенная, почти незнакомая, и медленно пила чай. Голубизна неба оказалась недолгой; все стало затягивать привычным серым сумеречным маревом.
– Смотри, смотри, – сказала Ася, чуть понизив голос. – Снова пошел снег.
Ира, теща и дети должны были вернуться с дачи только вечером. Он оставил им записку. «Зашла Ася, подвернула ногу. Повез ее к родителям. Может, останусь поболтать с Н. С. Звоните туда». От метро было совсем недалеко, башенки дома светились в медленно вечереющем зимнем воздухе, а Натан Семенович уже ждал их с горячим чаем. Ася, стройная, неожиданно нервозная, но все еще наполненная тайными тенями гаснущего ликования, разбросала сапоги по прихожей, чуть припадая на правую ногу, похромала по коридору и устроилась на кухонном диване.
– И как тебя угораздило? – спросил Натан Семенович.
– Влезла на лед, как последняя малолетняя дура, – ответила Ася, – да еще и на каблуках, вот и угораздило.
– Коровища ты моя. – Натан Семенович сокрушенно покачал головой. – Болит? Ладно, пойдем-ка посмотрим, что ты себе поломала. А вы, Андрюша, пейте чай, пейте, не сидите. Конфеты на столе, эклеры сейчас достану. Варенье Верино – то, что вы любите. Будет у нас чаепитие. Ну, пойдем-пойдем.
Вернулся с племянницей минут через пять, довольный, успокоенный. «Притворщица и симулянтка», – огласил он свой вердикт и сосредоточенно погрузился в намазывание на булку малинового варенья. Андрей уже начал беспокоиться за детей и Ирку, непонятно зачем уехавших на дачу накануне его возвращения, и совсем было собрался уходить, но тут позвонил телефон и привычный недовольный голос жены спросил, как поживает ее «безмозглая великовозрастная сестрица».
– Симулирует, – весело отозвался Натан Семенович. – Как всегда, симулирует. Думает, микробы родины будут без нее ползать.
Ася поморщилась.
– Ладно, – ответила Ира, – проведу с ней завтра воспитательную беседу. А Андрея вы там не мурыжьте, хорошенького понемножку. Спать очень хочется.
Повесила трубку.
– Спать, конечно, дело хорошее, – подумав, сказал Натан Семенович, – но вы, Андрюша, все равно не убегайте так сразу. Верочка расстроится, что вас не застала. А дщерь моя, когда вернетесь, все равно третий сон смотреть будет. Не первый год ее знаю. К тому же Ася сказала, что на Белоозере вы нашли нечто совсем уж удивительное. Можно будет прийти взглянуть?
– Забрали, – ответил Андрей довольно мрачно.
– Кто забрал?
– Ну как кто? – Андрей мрачнел на глазах все больше. – Друзья наши бесценные из немаленького домика-пряника.
Натан Семенович удивленно поморщился и взглянул на Андрея еще раз.
– Да что ж вы там такое нашли? – удивился он. – Скелет немецкого диверсанта? Водородную бомбу? Рассказывайте-ка по порядку. Знаете же, что дальше меня не пойдет. Кстати, подписку о неразглашении заставили подписать?
– Нет, – ответил Андрей. – Хватит того, что рукопись забрали.
– Тогда все нестрашно, – снова весело сказал Натан Семенович, а Андрей раздраженно подумал: «Тоже мне утешение. Точно так же он мог сказать: хоть не съели, ну и ладушки».
– В монастыре долго копали, – начал Андрей, – почти все лето. Когда я подключился, вторая смена заканчивала. А потом, когда уже собрались уезжать, там и копать-то стало почти невозможно, нашли тайник. Ход прямо из-под стены, да так, что можно хоть рядом стоять, ничего не заметно. Камни да и камни. Практически случайно нашли, по звуку. Оттуда лестница вниз, просто метростроевцы какие-то. Сначала мы думали, что обычный тайник на случай набегов, да так и казалось. Вытащили некоторое количество древностей, задокументировали. А потом в схроне за камнями нашли эту рукопись; сама рукопись века пятнадцатого, но оригинальный текст, возможно, еще домонгольский. В основном по-гречески, немного, кажется, по-древнееврейски. На древнееврейском у нас никто не читает, а по-гречески дребедень какая-то; вроде смысл есть, а вроде его и нет. Не понимаю, зачем монахи ее хранили. Да еще так. Похоже, весь схрон ради нее был построен.



