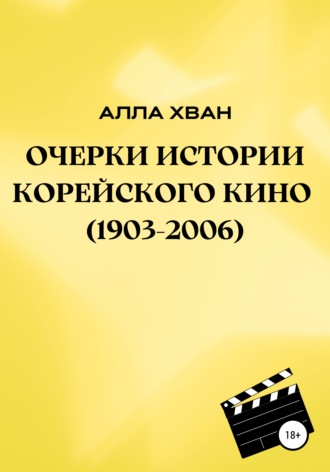
Полная версия
Очерки истории корейского кино (1903–2006)
Мёнчун поднял голову, посмотрел в потолок. Затем несколько приглушенно, будто про себя, сказал:
– Хочу в нейтральную страну.
Говоривший отшвырнул карандаш, ударил по столу рукой и взглянул на сидящего рядом американца. Тот пожал плечами и засмеялся, прищурив глаза.
…Море обещаний, конечно, вздор, но ждать исполнения обещанного еще глупее. Море… и чашка воды, необходимая для утоления жажды – между ними пропасть, доверху наполненная людскими слезами, кровью и потом. Мы виноваты лишь в том, что не знаем глубины этой пропасти. Грустное заблуждение «интеллигента», выросшего в отставшей от жизни, бедной стране. Он верит не в науку, а в волшебство… Он верит ловкачам, хитро жонглирующим словами, чтобы продать подороже квинтэссенцию человеческого счастья, верит власти и покидает надежную гавань в наивной надежде получить чашечку магического напитка»[401].
В финале романа главный герой навсегда покидает разделенную Корею и отправляется в «третью страну». Но на пути в Неизвестность он кончает жизнь самоубийством – бросается с борта корабля в волны Индийского океана.
Сам автор романа признавался: «В книге «Площадь» предметом повествования является не судьба государства, не политика или жизнь и деятельность «великих людей» мира сего. Я сам всегда в гуще народа и меня, естественно, интересовало прежде всего то, чем живут простые люди». (Русскому читателю от автора)»[402].
Примечательно, что писатель Чхве Инхун написал три предисловия к переизданиям своего романа, «переходя от очевидной надежды на «рассвет» для Кореи к крайне пессимистичному заключительному предисловию: «Несмотря на волнения и бедствия, Корея Ли Мёнчуна была полна надежд и мечтаний о лучшем обществе. Хотя позже он понял, что мечты не могут легко сбыться, он никогда бы не подумал, что Корея окажется практически в тех же условиях сорок лет спустя. Помимо предположений о психологии главного героя, даже я, как сам автор, не ожидал, что проблемы Ли сохранятся и сегодня»[403].
По мнению исследователей, самоубийство главного героя романа «Площадь» – «это не просто акт лишения себя жизни, но результат и выражение его глубокой рефлексии, прозрения, что между любовью и идеологией всегда нужно выбирать любовь, потому что она – истина… в романе «Площадь» впервые на передний план выходит личность в её современном понимании – главный герой романа, который испытывает шок, обнаружив, насколько реальность не соответствует пропагандируемой идеологии, обретает подлинную любовь, но платит за это слишком дорогой ценой»[404].
Нелинейная структура изложения, рваная композиция, когда события то и дело отсылают нас в прошлое, впервые была использована в этом корейском романе. Большинство южнокорейских исследователей считают роман «Площадь» «выдающимся произведением корейской литературы, предложившим читателям более глубокую интерпретацию образа и влияния Корейской войны»[405]. Роман «Площадь» «превратился в литературный символ Южной Кореи 1960-х годов… Этот роман заложил литературную тему «разделенной Кореи», к которой впоследствии не раз обращались корейские писатели и поэты»[406].
Литературные критики считают основным достоинством романа «Площадь» мужество писателя Чхве Инхуна, беспощадно описавшего пороки обеих идеологических систем[407] – капиталистического Юга и социалистического Севера. В одном из некрологов в связи кончиной Чхве Инхуна отмечалось, что роман «Площадь» расширил «горизонты корейской литературы, и он был одним из первых писателей, кто запечатлел идеологические битвы, которые имели место во второй половине XX века и продолжаются до сих пор»[408].
Тема войны и ощущения взрослеющего человека в трагический период гражданской войны, раскрытые в романе «Площадь», до сих пор остаются самыми популярными. Несомненно, роман Чхве Инхуна оказал сильное влияние на формирование сознания молодых корейцев в Республике Корея.
Например, в фильме «Объединенная зона безопасности» (JSA: Joint Security Area, Gongdong gyeongbi guyeok JSA, 2000) режиссер Пак Чханук использовал тему эмиграции отца героини в нейтральную страну после окончания Корейской войны – это омма́ж (от фр. hommage) – дань уважения писателю Чхве Инхуну, автору знаменитого романа «Площадь». В фильме главная героиня, дочь корейского эмигранта Софи Чан (Sophie E. Jean), родившаяся в Швейцарии, работает в демилитаризованной зоне в составе войск ООН и расследует инцидент между пограничниками Республики Корея и КНДР. Фильм «Объединенная зона безопасности» был лидером национального проката в 2000-м году.
Тема Корейской войны в искусстве XX века
События Корейской войны широко обсуждались во всем мире, кроме СССР и Китая. Испано-французский художник Пабло Пикассо (Pablo Picasso, 1881–1973) написал картину «Резня в Корее» \ «Бойня в Корее», (Massacre in Korea, 1951) о зверствах военных против мирного населения, имевших место во время Корейской войны. Есть основания полагать, что мотивом к написанию картины были военные преступления американских солдат в деревне Синчхун (Shinchung), северной провинции Хванхэдо (Hwanghae). В Южной Корее картина считалась антиамериканской и долгое время была запрещена к показу вплоть до 1990-х годов[409].
В СССР об этой картине было известно только узкому кругу искусствоведов. И только в 2010 году (28 февраля-23 мая) в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина среди 280 работ из собрания Парижского Национального музея Пикассо, впервые в Москве, была выставлена картина «Резня в Корее», как социально обостренная позиция художника, который всегда отзывался своим «режущим, обжигающим искусством» на тему войны и смерти[410].
Впервые в истории Республики Корея летом 2021 года была запланирована выставка, посвященная 140-летию Пабло Пикассо. В Музее Хангарам (Hangaram) в Сеульском центре искусств южнокорейские граждане могли увидеть 110 произведений из парижского музея Пикассо, в том числе, знаменитую антивоенную картину «Резня в Корее»[411].
Тема Корейской войны была самой актуальной в кинематографе США. В 1950-х годах были выпущены две военных драмы о бравых американских пилотах – «Мосты в Токо-Ри» (The Bridges at Toko-Ri, 1954)[412] режиссера Марка Робсона (Mark Robson, 1913–1978) и «Мужчины сражающейся дамы» (Men of the Fighting Lady, 1954)[413] режиссера Эндрю Мартона (Аndrew Marton, 1904–1992). Так американцам напоминали о «забытой войне», как называли Корейскую войну в США.
В конце 1960-х годов в США Ричард Хукер (Richard Hooker) – псевдоним Ричарда Хорбергера (Richard Hornberger Jr., 1924–1997), рассказал о Корейской войне в своей повести «МЭШ / Передвижной армейский хирургический госпиталь» \ «МЭШ: Повесть о трех армейских врачах» (M*A*S*H \ US Mobile Army Surgical Hospital \ MASH: A Novel About Three Army Doctors, 1968). В повести «МЭШ» с большой долей черного юмора довольно правдиво описана работа полевых госпиталей времен Корейской войны.
Крупнейшая голливудская киностудия «20-й век Фокс» (20th Century Fox) выпустила по мотивам повести фильм «МЭШ» (M*A*S*H, 1970) режиссера Роберта Олтмена (Robert Altman, 1925–2006). К удивлению производителей и творческой группы, фильм «МЭШ» собрал свыше 80 млн дол. в прокате. Фильм Роберта Олтмена признан «как один из самых ярких антивоенных и антиавторитарных фильмов в современной истории Голливуда»[414]. Кстати, «МЭШ» – единственный коммерчески успешный фильм режиссера-новатора и убежденного нонконформиста. Большинство критиков, оценивая работу режиссера Роберта Олтмэна, называли фильм «МЭШ» «ярким антивоенным памфлетом, беспощадной сатирой» и отнесли жанр картины к чёрной комедии. Это редкий случай, когда низкобюджетный фильм добился значительного кассового успеха и был награжден множеством наград самых престижных кинофестивалей[415].
Так, благодаря художнику Пабло Пикассо, американцам – писателю Р. Хукеру/ Хорбергеру, кинорежиссеру Роберту Олтмену и создателям сериала «МЭШ» кинокомпании «XX век Фокс» (20th Century Fox Television) и др., трагедия братоубийственной Корейской войны была широко освещена в истории культуры XX века.
Послевоенный период
После гражданской войны Южная Корея была отчаянно бедна и нуждалась в реконструкции. Доход на душу населения в стране составлял «всего лишь 65 долларов – меньше чем приходилось на одного жителя Кореи в период японского колониального господства»[416].
По всей территории Республики Корея был сохранен комендантский час, длившийся долгие годы[417]. Официально это объяснялось угрозой со стороны северокорейских агентов и диверсантов. Но главной причиной многолетнего существования комендантского часа в Южной Корее было желание диктаторских правительств оправдать жестокие репрессии против оппозиции, проводившиеся ночью[418].
Комендантский час начинался в полночь и заканчивался в 04:00 часа утра. Въезды в корейские города перегораживались специальными барьерами. Такие же заграждения ставились и на важнейших городских перекрестках. Часовые бдительно проверяли наличие ночных пропусков у водителей редких машин. К полуночи все увеселительные и питейные заведения полагалось закрывать. Только редким заведениям разрешалось работать всю ночь, но их посетители не могли покинуть помещения во время комендантского часа. Расписания поездов и междугородних автобусов составлялись таким образом, чтобы пассажиры могли добраться до дома перед началом комендантского часа[419].
Восстановление киноиндустрии
Послевоенная обстановка тяжело сказывалась не только на производстве, но и на прокате южнокорейских фильмов. Национальные фильмы, в основном, показывались в провинции. Крупные частные кинотеатры предпочитали показывать голливудские фильмы.
Часть кинематографистов отправилась в Сеул сразу же после перемирия. По воспоминаниям очевидцев, все деятели кино были вынуждены зарабатывать на жизнь где придется, но вечерами они собирались вместе. После Корейской войны в Сеуле местом встреч кинематографистов стал район Мёндон (Myeongdong), где сохранились и работали несколько кинотеатров. Кинематографисты потребовали от правительства передать один из кинотеатров в районе Мёндон для проката корейского кино, а также налоговые льготы для возрождения отечественного кино и создания Фонда национального кино[420].
В 1953 году первый президент Республики Корея Ли Сынман освободил кинопроизводство от налогов, в надежде на быстрое возрождение национального кино. Но денежная реформа 1953 года привела южнокорейскую киноиндустрию к полному разорению. Производства художественных фильмов для широкого проката в стране не было.
Но корейские кинематографисты не сдались. Они стали собираться на улице Чхунмуро (Chungmuro)[421]. На руинах Сеула стали строиться новые здания и в них возобновили свою работу некоторые корейские киностудии. Постепенно, на Чхунмуро стали восстанавливаться старые и появляться новые киностудии. Так, через некоторое время улицу Чхунмуро переименовали в Корейский Голливуд. В любое время артисты, операторы и другие кинематографисты собирались в кафе. Но каждый цех имел определенное место встреч, которое обычно, совпадало с расположенным на улице Чхунмуро кафе[422]. Так на улице Чхунмуро можно было собрать любую съемочную группу, договориться о предстоящей работе и т. п.
На улице Чхунмуро театральный деятель Ли Хэран (Lee Hae-rang, 1916–1989) открыл первое специальное учебное заведение для будущих киноактеров. Конкурс на одно место составлял 20 человек[423].
После гражданской войны, несмотря на все трудности, национальное кино Республики Корея стало самым мобильным источником информации, всегда быстро реагировавшим на все происходящее в стране. А также южнокорейское киноискусство стало самым правдивым и убедительным летописцем всех социально-экономических, политических и культурных перемен, происходивших в Южной Корее в 1950-1960-е годы.
«Золотой Расцвет» (Golden Flowering)
Все южнокорейские исследователи кино единодушны: «Золотой Расцвет» или период реставрации корейского кинопроизводства начался сразу после Корейской войны. По мнению Ким Хва, с 1958 по 1964 гг.[424] – это период реставрации киноиндустрии. Долгожданное развитие собственного национального кино происходило те годы, когда Республика Корея переживала индустриализацию, модернизацию аграрной страны, конфликты и противоречия в обществе.
Темами первых послевоенных южнокорейских фильмов 1950-х годов были военная разруха, атмосфера постоянной угрозы с Севера, подозрительность полиции к собственным гражданам, полное обнищание населения, усиление антикоммунистической идеологии и процесс частичной американизации корейской культуры[425].
Традиции документального реализма (главный аргумент южнокорейских кинематографистов того времени – «так было на самом деле!») в национальном кино, а также социально активная и ответственная позиция кинохудожников раннего периода корейского кино была сохранена. Это происходило несмотря на выполнение жесткого правительственного заказа – наращивание производства антикоммунистических фильмов.
Политически активная и социально ответственная позиция кинематографистов была основана на воспоминаниях о том, что коммунистический Север вероломно напал на свободный Юг, без объявления войны. Все южнокорейские режиссеры взялись энергично выполнять политический и государственный заказ – увеличить объем производства антикоммунистических фильмов о гражданской войне в 1950-1970-х годах.
Возрождение корейского кино
Начало частичного восстановления кинопроизводства Южной Кореи датируется 1954 годом. Зарубежные гуманитарные программы предоставляли Южной Корее свои технологии и оборудование, подготовив почву для возрождения национального кинематографа в 1960-х годах. Благодаря безвозмездной помощи американцев, предоставивших кинооборудование[426] южнокорейским киностудиям, 1954–1957 годы стали периодом настоящего возрождения корейского кино. За четыре года было снято около 100 фильмов[427]. По другим данным, производство возросло с 8 фильмов в 1954 г. до 108 в 1959 г.![428]
Автор первой истории корейского кино Ли Ёниль (Lee Young-il, 1931–2001) период с 1955 по 1960 год назвал «периодом возрождения»[429]. Действительно, для кинематографистов Золотой Расцвет стал началом настоящего возрождения киноиндустрии в 1955 году, когда производство и прокат кинофильмов были переведены из военного ведомства в министерство культуры. Правительство Ли Сынмана освободило от налогов все действующие кинокомпании, которые «получили возможность закупать и демонстрировать иностранные фильмы, используя сборы от их проката на постановку собственных картин»[430].
Известно только о трех южнокорейских фильмах, снятых на 36-мм пленке и выпущенных в 1954 году[431]. О двух фильмах «Корея» (Korea, Koli-a(Korea), 1954) Син Санока и «Песня Родины» (Song of Hometown, Gohyang-ui nolae, 1954) Юн Бончхуна известно немного. В «Корее» Син Санок снимал на фоне живописных пейзажей знаменитых театральных и киноартистов – Чхве Ынхи (Choi Eun-Hee, 1926–2018), Ли Хэрана (Lee Hae-rang, 1916–1989) и Ким Довона (Kim Dong-won, 1916–2006).
А в «Песне Родины» рассказывалось о дочери богача и бедном парне, полюбивших друг друга до войны. Во время гражданской войны девушка стала медсестрой и ухаживала за раненым любимым. После войны влюбленные получили согласие родителей на брак и в финале поженились[432]. К сожалению, фильмы «Корея» и «Песня Родины» не сохранились.
Третий фильм – мелодрама режиссера Хан Хёнмо «Рука Судьбы» (The Hand of Destiny, Unmyeong-ui son, 1954) о любви северокорейской шпионки и южнокорейского полицейского, – стал самым известным в 1950-х годах. Это единственный фильм 1954 года, сохранившийся полностью.
Хан Хёнмо – самый успешный режиссер 1950-х годов
О кинооператоре и режиссере Хан Хёнмо (Han Hyeong-mo, 1917–1999) известно, что он родился в северной провинции Пхёнанпукто (Uiju, Pyeonganbuk-do), учился в Художественной Школе (Chunjin Art School) в Маньчжурии (Китай). В 1940-х годах Хан приехал в Сеул к другу своего брата, режиссеру Чхве Ингю (Choi In-kyu \ Choi In-gyu, 1911). Работал помощником режиссера Чхве Ингю в фильме «Плата за обучение» (Tuition, Cy-eoblyo, 1940). В следующем фильме Чхве Ингю «Бездомный Ангел» (Homeless Angel, 1941) Хан Хёнмо работал художником.
При содействии Чхве Ингю, Хан Хёнмо уехал в Японию на киностудию «Донбо» (Dongbo Film Studio), где изучал кинотехнику. В 1943 году Хан Хёнмо сдал квалификационный экзамен и стал профессиональным кинооператором. Он вернулся в Корею и, как оператор, дебютировал в фильме Чхве Ингю «Дети солнца» (Children of the Sun, 1944). По вине ассистента оператора, многие эпизоды были сняты не в фокусе[433]. Расстроенный Хан уехал в Маньчжурию, вероятно, чтобы не оказаться в тюрьме по подозрению в саботаже.
После капитуляции Японии вместе с корейскими репатриантами Хан Хёнмо вернулся из Шанхая в Сеул и как кинооператор снял знаменитый фильм Чхве Ингю «Да здравствует Свобода!» (1946).
В 1949 г. Хан Хёнмо дебютировал как режиссер с первым антикоммунистическим фильмом «Ломая стену» (Breaking the Wall, Seongbyeog-eul ttulhgo, 1949)[434]. По базе данных корейских фильмов, главные герои фильма – ровесники и родственники Чипгиль (Jip-gil) и Ёнпаль (Young-pal) после освобождения Кореи оказались идеологическими противниками. Коммунист Ёнпаль убивает Чипгиля выстрелом в грудь, отстаивая свои убеждения. В конце аннотации вывод: «Это показывает, насколько жестоким может быть коммунист, убив собственного родственника»[435]. Этот фильм не сохранился.
Во время Корейской войны Хан руководил созданием пропагандистских фильмов для корейских вооруженных сил. После войны Хан Хёнмо снял фильм «Рука Судьбы» (The Hand of Destiny, Unmyeong-ui son, 1954) в жанре мелодрамы. На самом деле, фильм «Рука Судьбы» – первый фильм «смешения жанров»: в антикоммунистическом фильме присутствуют элементы мелодрамы и боевика. Сюжет фильма «Рука Судьбы» не был оригинальным. История шпионки, разрывающейся между любовью и идеологией в те годы часто использовалась в южнокорейском кино. Но в фильме Хан Хёнмо, впервые в истории корейского кино, был показан мимолетный поцелуй, что привлекло многочисленных зрителей[436].
Содержание фильма. Маргарет или Чуна (Jung-ae) – северокорейская шпионка. Она заступается за незнакомого студента колледжа Син Ёнчхоля (Shin Yeong-cheol), которому сильно досталось в драке. Маргарет приглашает студента к себе домой и обрабатывает его раны. Затем они встречаются на причале, куда прибывают американские солдаты и грузы, и где находится черный рынок. Маргарет покупает Ёнчхолю костюм и ботинки, приводит к себе домой. Они становятся любовниками.
Рано утром Маргарет находит в кармане Ёнчхоля удостоверение его личности и узнает, что он – капитан отдела по борьбе со шпионажем. Она сообщает об этом своему начальнику – резиденту северокорейской разведки Паку (Park). По требованию резидента Маргарет прекращает любовные отношения с Ёнчхолем. А тот получает донесение, что в горах северокорейский агент встретится с женщиной. Он вместе с сотрудником, переодетым в крестьянина, выслеживает шпиона, но тот замечает слежку, отстреливается и скрывается. А Маргарет, которая ждала северокорейского агента, слышит выстрелы, вынимает пистолет и видит Ёнчхоля. В растерянности она убегает.
Резидент Пак приказывает Маргарет устранить Ёнчхоля. Маргарет приглашает влюбленного Ёнчхоля «в гости к своей тете». Они приезжают в горы, Маргарет вытаскивает свой пистолет, тычет им в плечо Ёнчхоля и приказывает ему идти в горы. В пещере Ёнчхоль признается, что любит Маргарет. Она тоже говорит, что любит его. В этот момент появляется загадочный резидент Пак. Весь фильм мы видели то его руку с большим перстнем, то ноги в начищенных ботинках. Оказалось, что это – весьма упитанный господин в шляпе и хорошем костюме. Он приказывает Маргарет убить Ёнчхоля. Маргарет нерешительно смотрит на Ёнчхоля, поднимает пистолет, резко разворачивается, стреляет в Пака, но промахивается. Резидент Пак стреляет в Маргарет и смертельно ранит ее. Ёнчхоль бросается на Пака. Они борются. Пак убегает. Ёнчхоль находит его револьвер. Идет по пещере, ищет резидента. Пак выбегает к лежащей Маргарет, берет ее пистолет, оборачивается, стреляет в Ёнчхоля и промахивается. Но южнокорейский капитан стреляет метко и убивает Пака.
Смертельно раненая Маргарет лежит на земле, рядом с ней Ёнчхоль. Плачущая Маргарет просит Ёнчхоля убить ее. Капитан Син Ёнчхоль быстро целует Маргарет в губы, встает и стреляет в нее.
Фильм «Рука судьбы» пользовался коммерческим успехом и благосклонностью критики. В прессе его называли «главной и удачной работой в истории корейского кино»[437]. В самом деле, в фильме Хан Хёнмо «Рука Судьбы» необычна главная героиня Маргарет. Впервые в антикоммунистическом фильме коварная шпионка выбрала романтическую любовь к привлекательному капитану отдела по борьбе со шпионажем, но заплатила за это своей жизнью.
Маргарет – сложный, провокационный образ привлекательной девушки, который отражает фантазии мужчин того времени о роковых женщинах. В начале фильма Маргарет выглядит обольстительной и порочной. Она проявляет невиданную в те годы смелость и приглашает незнакомого мужчину в свою комнату, активно ухаживает за ним и первой намекает на симпатию к нерешительному студенту Ёнчхолю. Одежда и обстановка ее комнаты выглядели роскошными для того времени. Так режиссер материализовал один из образов абсолютного зла – красивая шпионка, чарам которой трудно противостоять. И только главный герой Син Ёнчхоль, убежденный антикоммунист, южнокорейский капитан отдела по борьбе со шпионажем, не потерял голову и честь. Он, почти не раздумывая, выбрал свою обязанность – уничтожать северокорейских шпионов. Для этого ему пришлось отказаться от роковой красавицы и шпионки Маргарет, и убить ее.
Режиссер Хан Хёнмо был не только одним из немногих профессиональных кинооператоров, но и знатоком всей кинотехники того времени. Он лично смонтировал свой фильм. Критики отметили замечательный монтаж – части полуобнаженного тела переодевающейся героини чередуются с роскошной обстановкой комнаты Маргарет и создают чувственное напряжение и таинственность.
Некоторые обозреватели того времени считали, что фильм «Рука Судьбы» – это метафора разделенной Кореи. В диалогах между влюбленными все время звучит тема разделенности. Ёнчхоль говорит Маргарет: «Вы настолько близки теперь, но почему мы жили обособленно?» Авторы намекают о трагедии недавно разделенной страны. И когда Ёнчхоль обещает своему руководству «быть сильным», зрители воспринимали эти слова, как лозунг, предназначенный для южнокорейской аудитории в борьбе против коммунистов[438].
Южнокорейские исследователи также отмечают, что фильм «Рука Судьбы» вошел в историю кино Республики Корея, как первый фильм, в котором был показан поцелуй. В финальной сцене Ёнчхоль, по-европейски – в губы, целует смертельно раненую Маргарет, как будто великодушно прощает ей грехи. И тут же стреляет в нее. Это была сенсация. Тогда в стране были еще очень сильны целомудренные конфуцианские нормы поведения между мужчинами и женщинами[439].
Многие исследователи считают, что первая сцена поцелуя появилась в корейском кино сразу после Корейской войны неслучайно. Поцелуй в губы – прямое выражение радикального изменения взаимоотношений между мужчиной и женщиной в послевоенной Республике Корея. Маргарет являлась не только северокорейской шпионкой, она символизировала новый тип женщины в послевоенном южнокорейском обществе, находящимся под сильным влиянием американской культуры.
Действительно, американская массовая культура и товары широкого потребления наводнили страну. Многие молодые корейцы были очарованы этой новой культурой и легко перенимали моду и даже «свободные сексуальные отношения».
Некоторые южнокорейские кинематографисты пытались повторить скандальный успех Хана. Но в 1956 году Министерство культуры и образования РК издало запрет на показ поцелуев и любовных игр[440]. Было запрещено снимать не только поцелуи, но и все виды эротических игр, эти правила существовали в РК долгие годы[441].
По сведениям Корейского Киноархива, фильм режиссера Хан Хёнмо «Рука Судьбы» надолго стал эталоном для оценки технического уровня всех корейских фильмов того периода. Несомненно, фильм «Рука Судьбы» имеет важное значение для корейского кино 1950-х годов. К тому же это единственный сохранившийся фильм, из всей кинопродукции 1954 года.
После коммерческого успеха «Руки судьбы» (1956) Хан создал собственную студию «Хан Хёнмо продакшн» (Han Hyeong-Mo PD), где был режиссером и главным оператором всех своих фильмов. По некоторым источникам, на киностудии «Хан Хёнмо продакшн» режиссер Хан снял два фильма: «Госпожа Свобода» (Madam Freedom, Ja-yubu-in, 1956) и «Беспокойная молодость» (Hyperbolae of Youth, a.k.a. Double Curve of Youth, Cheongchunssanggogseon, 1956). По другим сведениям, фильм «Госпожа Свобода» был снят в павильонах кинокомпании «Самсонфильм» (SamSeong Film)[442].

