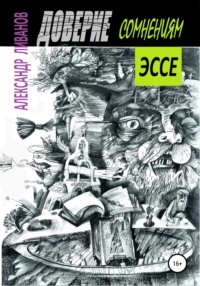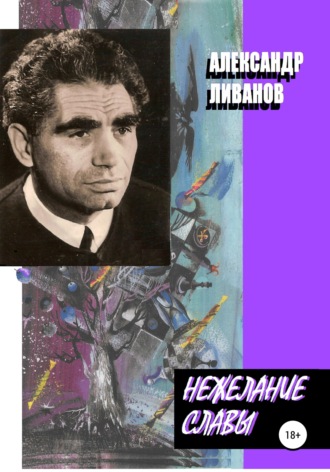
Полная версия
Нежелание славы

Александр Ливанов
Нежелание славы
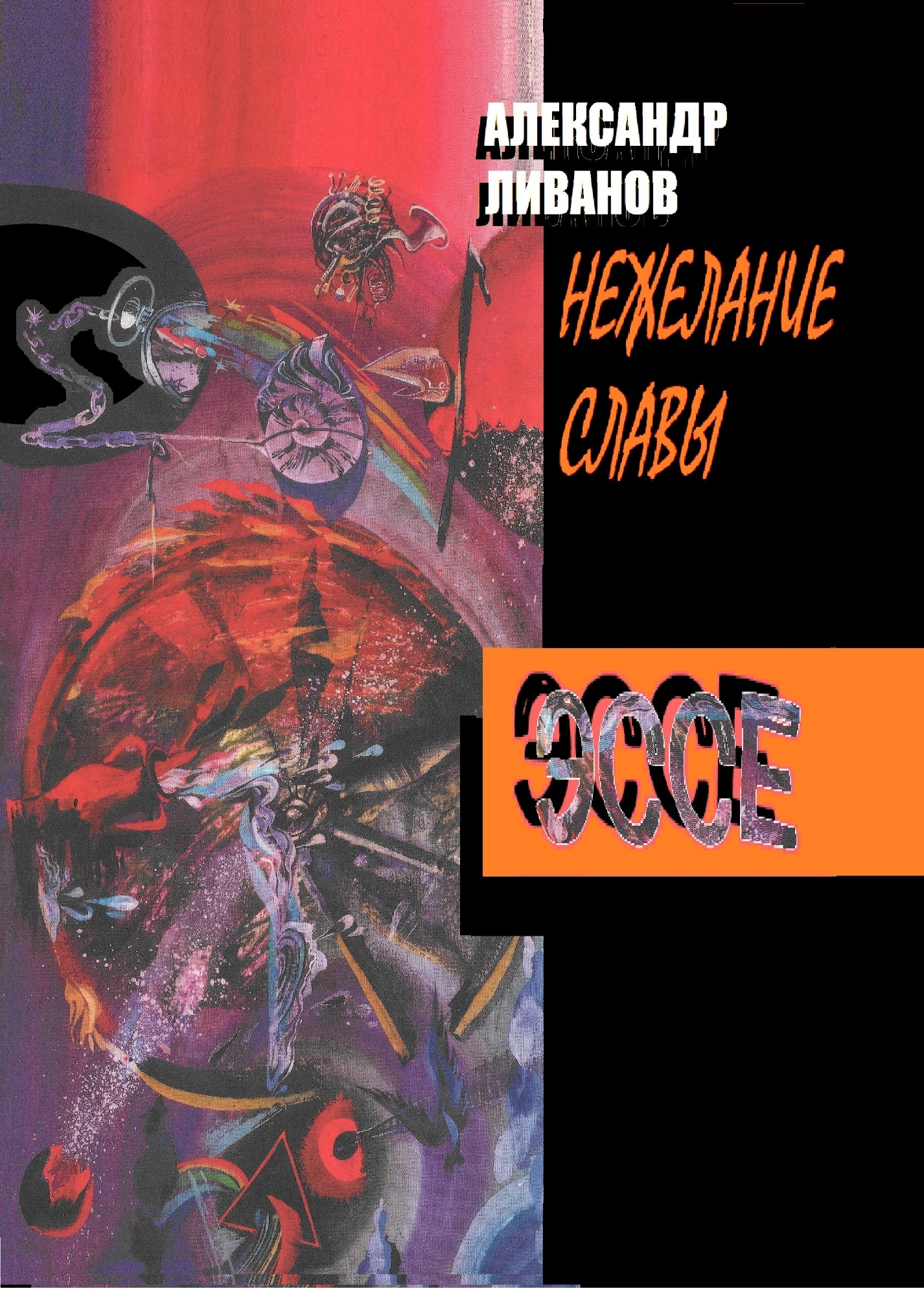
Молитесь на ночь, чтобы вам
Вдруг не проснуться знаменитым.
Анна Ахматова
Поверят ли мне или нет, но утверждаю, что
собственно для публики я редко писал.
Когда я мало-мальски в ударе, она мне и в голову
не приходит.
П.А. Вяземский
Уверение единомыслия
Его зори
У Хлебникова нет и, наверно, никогда не будет «массового читателя». Он «поэт для поэтов», как сказано самими поэтами!
Он наивен и чист, несуетен и задумчив, нездешний и приязненный, то ошибается, то приводит нежданно к кладу, оставаясь равнодушным. Какая-то изначальная в нем необщность, такая ранняя личность и чувство ее, что на всех (немногих, впрочем) фотографиях детства и юности он весь – сам в себе, словно внешний мир ему нелюбопытен. Какая-то фатальная самоуглубленность, выражение страстотерпца уже в эти годы! Кажется, никогда эти глаза не знали оживления, лицо не озаряла улыбка… Все свое в этих глазах, свое небо, своя синь…
Столь разные люди, а если присмотреться: схожесть! Может просто «генетическая тайна» русского лица? Схожесть Хлебникова и Блока (вслушиваются: первый в себя, второй – во вселенную!), Хлебникова и Булгакова, Хлебникова и Белого. И даже Хлебникова и Лермонтова (с портрета Палена).
У всех – при всем различии – еще и такая общность: эта прозрачная бездонность глаз. Лицо лишь сопровождает неслышный полет!
«Мы ленивы и нелюбопытны»… В большом однотомнике «Совписа» «Велимир Хлебников, Творения», есть фотография «Хлебников Велимир с херсонской знакомой Бондаренко, 1912 г.». Стало быть, Хлебников был в Херсоне, в городе, ставшем моим детдомовским приютом спустя двадцать с лишком лет! Удержусь от «математических гороскопов», к которым поэт был столь горячим охотником! Странно, что земляки мои не кинулись в поиски: кто такая Бондаренко? Лицо девушки – провинциальной горожанки. Угол небольшого, видать, глинобитного, дома, каких я еще помню на Забалке, на Военке и других предместьях Херсона…. В сущности – все мало отличалось от деревенского.
Бондаренко – красива, похожа на итальянскую кинозвезду Джину Лоллобриджиду. Такие же большие, жгучие черные глаза, такие же черты лица. Улыбается, кажется, вот-вот и Хлебников улыбнется. У Бондаренко над головой – поднятая плетенка ивовая, видать, с какими-то овощами, увенчана и голова поэта такой же плетенкой. На Бондаренко – платье (отделка, затейливы сборки ворота, рукавов, на груди), по которому можно судить, если не о богатстве, то о достатке.
Ау, все Бондаренко Херсона (сколько? Не больше ста ведь!), откликнитесь! Кто знает, узнает на фотографии тетку, бабушку, прабабушку?.. Молодую женщину, дарившую поэту не только кров: любовь…
Хлебников любит пророчить. Он, например, замечает роковое значение для числа 28, видит в нем «закон поколений». «Истина разно понимается поколениями. Понимание ее меняется у поколений, рожденных через 28 лет». Пестрят имена и годы рождения великих. Можно по-разному относиться к этому «закону» – но комментарий поэта к времени, к личности родившихся, к их значению в истории – глубока, неожиданна, привлекает внимание, побуждает к долгому раздумью.
Поэт был бы велик уже тем, что ему достало мужества идти в поэзии необщим, своим путем. Был ли он футуристом? Думается, он и в среде футуристов – был футуристом!.. Скорее всего, что он был найден, причислен, будучи всегда: Хлебниковым. Он был бы велик уже совершенной – фатальной – отрешенностью в безразличии к печати, к тому, что дает: имя поэта. И в этом он тоже один: Хлебников… Стихи и проза его – точно не промытый, не просеянный золотой песок, в котором то и дело блещут золотинки!.. Это золотинки прозрений, которых ни у кого не встретишь. Поток мыслей, поток сознания – все вне времени и пространства всеобщего, потому что – в вечности…
В сверхповести, например, «Зангези» Хлебников приводит своеобразный «толковый словарик», весь он по поводу слова «ум» в сочетании с разными предлогами. И сколько нового мы узнаем об этом слове, главное, о том, что оно означает!
«Выум – это изобретающих ум. Конечно, нелюба старого ведет к выуму.
Ноум – враждебный ум, ведущий к другим выводам, ум, говорящий первому «но».
Гоум – высокий, как эти безделушки неба, звезды, невидные днем. У падших государей он берет выпавший посох Го.
Лаум – широкий, розлитый по наиболее широкой площади, не знающий берегов себе, как половодье реки.
Коум – спокойный, сковывающий, дающий устои, книги, правила и законы.
<Г>лаум – с вершины сходит в толпы ко всем. Он расскажет полям, что видно с горы.
Чеум – подымающий чашу к неведомому будущему. Его зори – чезори. Его луч – челуч. Его пламя – чепламя. Его воля – чеволя. Его горе – чегоре. Его неги – ченеги.
Моум – гибельный, крушащий, разрушающий. Он предсказан в пределах веры.
Вэум – ум ученичества и верного подданства, набожного духа».
И так далее!.. Сдается, все эти бессчетные разновидности ума – сам поэт, его всеобъемлющий универсально-творческий ум!.. И вместе с тем – все это некие интеллектуально-эмоциональные молитвы из потребности души человека и слова…
И все мы окажемся духовными недорослями перед духовностью поэта, его творческой потребностью в порыве и первозданности, к корневым тайнам слова, если небрежно или снисходительно усмехнемся над этими молитвами, рожденными духом творчества!
Ведь не улыбались ни Горький, ни Маяковский, ни Есенин!
Первоклассник, усвоивший, что три плюс два – пять, и забредя́ в университетскую аудиторию, где у двух досок сшибаются, точно два светила в мировом пространстве, два мэтра математики – конечно, волен и усмехнуться, и счесть их чокнутыми. Но он этого не сделает, всего лишь через девять лет, представ в благоговении на том же пороге! А ведь аттестат зрелости не гарантирует духовную зрелость…
Время Хлебникова – впереди. Поэт ждет нас терпеливо. Не будем заносчивыми невеждами и придем к нему с духовной уважительностью!
Прозрения Хлебникова, повторю, делаются как бы в оговорках, между делом, походя. Эти золотинки мысли нужно уметь заметить. Не так уж они редки!
Например, в 4-м парусе «Детей выдры» читаем: «Вокруг табора горели костры. Возы, скрипевшие днем, как того требовала неустрашимость их обладателей, теперь молчали. Ударяя в ладоши и кивая головой, казаки пели:
Славни молодцы запорожцы.
Побачили воны цаплю на болоте.
Отаман каже: «От же, братцы, дивка!»
А есаул каже: «Я з нею кохався».
А кошевой каже: «А я и повинчався».
Так, покручивая усы, пели насмешливую, неведомо кем сложенную песенку, смеющуюся над суровым обычаем Сечи Запорожской, этого русского ответа на западных меченосцев и тевтонских рыцарей».
Во-первых, перед нами очень сжатая в сущности своей, по-пушкински поэтому изобразительная, проза, с искрами юмора Гоголя, с упругим речестроем Чехова. Во-вторых, что здесь для нас главное, это, уроненная походя, характеристика Запорожской Сечи, генезис, психологическая и историческая сущность явления. Тут и характеристика, прозрение о важной черте славянской души – «русского ответа на западных меченосцев и тевтонских рыцарей». Ответ из самоотверженности, из вольницы и самодисциплины, из терпкой шутливости и все же печали… Мрачной, корыстной, завоевательной алчбе меченосцев и тевтонцев, с их католической, фанатичной одержимостью противопоставлена вольнолюбивая и самоотверженная душа славянского воина, борющего печаль о доме, о семье, о детях озорливой и все же печальной, видать нескончаемой, как сами скрипучие обозы посреди нескончаемых полей, песней. «Неведомо кем сложенную»?
Да всеми вместе! Казаками, обозом, ржаньем лошадиным, скрипом тележным, высоким полдневным небом…
Эти добродушнейшие люди явят невиданное мужество, едва повстречаются с врагом своей земли, будут рубиться насмерть. И эта песня – как сама готовность в безвестной славе перейти от жизни к бессмертию небытия!
Изобретатель
…На газорегуляторной станции под Ленинградом – непорядок. Станция никак не справляется с заданным режимом. Регуляторы точно взбесились, мечутся вверх-вниз штоками, стучат, точно из пушек палят, клапанами, стрелки на приборах лихорадочно мечутся по всей шкале, на самописцах сплошные «дикобразы», а должна быть плавная, льнущая к окружности, кривая…
Уже на станции перебывали все – проектанты, инженеры, ученые. «Нет ламинарности», «сильная турбулентность», «недопустимая степень дросселирования»… Прекрасно. Все это бесспорно так. И все это мы сами знаем! Грамотные – заглядываем и мы в книги. Нам не диагноз – нам бы лечение! Ах, заскучали, уважаемые: разбрелись восвояси?
«Надо вызвать Преснякова!» – осенило кого-то из наладчиков. И все переглянулись: мол, как это мы не догадались? Усмешка по лицам: забыли о Преснякове!.. Звонок директору: нужна его персональная… Не любят директоры расставаться со своими персональными. Сразу перестают чувствовать свою персону? «Кандидат? Академик? Маг и колдун?». «Нет, не то, не другое, не третье – Пресняков это Пресняков!».
– Кто первым сказал «э»? То-то ж! Прибодримся. На-пе-ре-кур!..
Из машины выбрался человечек, из тех, кого привычней встретить в пивной или в бане. Из-под беретки торчат седенькие старческие кудряшки. Плащик сильно потерт, но пояс затянут до девичьей талии.
Ему что-то говорят, перед ним искательно суетятся – будто сказочный целитель явился спасти от смерти принцессу. Он рассеянно кивает, простирает маленькую, точно у мальчишки, ручку: «туда?». Так и вправду целитель спросил бы – «где покои принцессы?».
Возле Преснякова только один начальник станции. Они вместе наклоняются к регулятору, на котором красной краской в человеческий рост написано «№ 1».
Мы сперва держимся поодаль. Но любопытство наше толкает все ближе и ближе. Нет, видать, Преснякову мы не мешаем. Он небрежным взглядом глянул на услужливо развернутую кем-то перед ним инструментальную сумку. Достает из кармана плаща небольшой кожаный кармашек. Напоминает мне дедовский кожаный кисет на сшивальнике…
Мы приникаем ближе. Инструмент колдуна! Стало быть, и не колдун вовсе – если все же инструмент! И вправду – комбинированная отвертка с множеством лезвий в широкой ручке, плоскогубцы, разводной ключик… Инструмент, как видно, «хожалый», а в общем – ничего особого. Видать, все с терпеньем когда-то собрано на толкучке…
– Этот больше всего барахлит! – говорит начальник станции.
– Все верно… По ходу потока он главный удар принимает на себя… Один с ПТР1 против колонны танков…
– Он так стучит клапаном, что в Ленинграде слышно! Что только не делали – как сумасшедший!
– Это хорошо, что сумасшедший… С ума сошел, стало быть, ум был… Было с чего сходить… Вернем ему его ум… лучше сумасшедший, чем мертвый… Нужно вернуть ему нужную чувствительность… Вижу орудовали здесь неопытные руки… Звания, степени – теоретики. А требуется другое: чувствовать дух механизмов!.. Идемте теперь к следующему… Система: один за всех, все за одного!..
– Но вроде бы ничего не изменилось? Так же грохочет!..
– А может он один хорошо работать, если остальные плохо работают?.. Надо налаживать – и каждый по отдельности – и всю систему вместе… Это же понятно… Всех понемногу доводим до ума…
К вечеру станция пришла в себя. Пресняков ее довел до ума! Ему выписали «аккордную сумму» – в общем-то не так уж чтобы ощутительно. Директор извинялся – «ревизоры, контролеры… Своя, в общем, система… Все друг дружку сводим с ума…
Директор, подписывая платежку, искательно хихикнул. Кассирша сама принесла деньги, вежливо показала ногтем, где птичка: «сумму – прописью, правей и ниже – подпись». А сама с любопытством воззрилась на человечка, который за один час огреб ее месячный оклад. Смотрела и недоумевала. Ну, добро бы те, в добротных костюмах, на своих персональных «шляповозах». Ученые, одно слово. А этот…
– Кто ж он такой? – спрашивала наладчиков кассирша.
– А вышла бы замуж за него? Глянулся?
– А то! Такие деньжищи гребет… Любая – не задумываясь…
– Задумается… Гребет то он гребет… Да редко. Нет, не кандидат. Не академик. Он – если по правде – больше! Он – изобретатель! Этому нигде не учат – изобретателем надо родиться!
Как ни странно – кассирша поняла. И не потому, что – кассирша, а потому что: женщина. Еще бы – женщине не понять творчество, если ей дано сокровеннейшее творчество: родить человека.
«Прес-ня-ков» – причмокнув, склонив голову набок, в задумчивости протянула кассирша. – Очень русская фамилия. А он-то как раз не… пресный… Есть же талантливые люди!
И обвела нас глазами – точно желала немедленно и лично убедиться, почему каждый из нас не – Пресняков. А, может, надеялась на нас?
Во всяком случае – мы не потупились.
Лиловая папка
Принес в редакцию поэзии свой портфель, нагруженный рукописями. Вид у меня, надо полагать, под стать портфелю. Помимо приложенных к рукописям рецензий, я перегружен мыслями об авторах этих рукописей. Ведь не всё – далеко не всё – можно написать… О многом надо потолковать с редактором. О каждой рукописи, по поводу каждого автора. Мало ли мыслей накопилось по поводу всех этих рукописей вообще, главное, по поводу каждой отдельно!
Подчас она выеденного яйца не стоит – а заниматься ею надо всерьез, тратить на нее время, силы – куски жизни. При этом – не впасть в раздражение, или даже в мстительное чувство к неумелости и бесталанности авторской. И здесь то же – «но ты будь тверд, спокоен и угрюм». Последнее особенно поощряемо рецензированием. Отдаешь время, силы, главное, опыт на то, что никогда не увидит печать… Читаешь, думаешь, пишешь – и все без печати… Поневоле на душе, на лице эта печать – отверженности, если даже не больше: обреченности!.. К тому же – ты исполнен щедрости, доброжелательства, а люди тебя не понимают. Ведь каждый считает, что он пишет хорошо, что «зарезал» ты его рукопись, обездолил, лишил судьбы – по зловредности, за то, что «тебе платят», потому что так «велели в редакции»… Щедрость и доброжелательство люди понимают лишь к себе – не к поэзии!
Кто же ты – рецензент? Палач? Целитель? Спаситель?..
Надеялся, поставлю на стул свой тяжелый портфель, со скорбно-отрешенным видом буду вытаскивать по одной рукописи, сопровождая каждую каким-нибудь кратким резюме. «Безнадежно», «детский лепет», «форма без содержания», «тут что-то есть… Надо его иметь в виду. Начал не с формы, с сущности. Год-другой-труда – может родиться поэт!».
Обычно последнее – и говорится последним. Редактор смиренно кивает головой, он привык уже к этим «безнадежно», «детский лепет» и «форма без содержания» (любопытно, что не бывает наоборот – «содержания без формы»!). Огромный самотек рукописей – а линии их известны. Две ипостаси. «Не пойдет» (никак не может «пойти»!). И этого подавляющее большинство. При всем разнообразии фамилий, цвета папок, названий рукописей. И очень редкое, радостно-сдержанное, почти суеверное. «Это может пойти… Мне понравилось… Посмотрите сами…». Вторая ипостась – без эмоций, отрешенно, почти равнодушно.
Тут не перестраховка, не готовность пойти на попятную. Другое тут. Не выказать восторга, увлеченности, экзальтации и вообще – «настроения». Во все такое – плохо верится. И здесь то же: «тверд, спокоен и угрюм»… Это обывателю-читателю, литературным дамам обоего пола позволительно восторгаться. Мы же решаем судьбу автора. Годы труда! Мы по ту сторону добра и зла, мы почти не люди – какие-то авгуры, тайновидцы, нет у нас эмоций, одна лишь: объективность!..
«Объективность»… О самом субъективном: о поэзии! Пушкина и то долго «пробовали на зуб». Как для звездного света, нужно время. Кто раньше, кто позже, кто по хрестоматии – «да» обязательно прозвучит когда-то. Редактор занят автором – кому же все выскажу?
– И что же? Вам не нравится в моей поэме просторечье? – спрашивает сидящий перед редактором автор. Редактор мне бегло и молча кивнул. Мол, подожди… Работа с автором. Уверенность, что я пойму все правильно, не обижусь. Более того, сочту – так оно и есть! – эту холодность кивка как доказательство: мы ведь свои… Мы поймем друг друга. Это перед автором надо – выступать. И показать свой энтузиазм, и тонкое понимание поэзии, и зрелость суждений, при всем притом – быть вежливым, радушным. Легкокрылая молва, начальство, то-сё.
Ну и работай себе на здоровье. Посижу. Подожду. Только не воображай, что ты – «работодатель», что я уж очень дорожу этим рецензированием…. Хорошо, если и вправду – «свои». А если – небрежение?.. Три человека, три отношения: явь, мнительность, суеверие…
Посижу, посмотрю… Затем, кто же – автор? Не из тех ли, кому я дал «добро»? Любопытно все же… Или что это – лестно казаться самому себе – добродетелем? Хочется, чтоб автор знал – именно я его «добродетель»?.. А как же те – десятки, если не сотни! – для которых я – «палач»?..
– Я старался избегать литературность! Мои герои – простые люди труда! И говорят они на просторечье!
– Во-первых, нет «простых людей», как нет «сложных людей». Тем более нет «простоты» от труда! Это старые, простите, барские суждения… Мы-де – тонкие, сложные, мы в университетах учились, Гегеля и Писарева читывали… А мужики-де – простые! И долго даже в литературу не пускали! А о вашем просторечье… Хорошо бы… Да у вас оно, не просторечье, а, как сказано у Пушкина – простомыслие! Не слово-мысль, не слово-умысел скрыть мысль… Не то ни се…
– Где? Где это сказано у Пушкина?.. – вскидывается автор.
Что это, – не верит на слово? Хочет сам прочесть? Верно ли понял редактор? Просто заинтересовали его эти слова Пушкина? Ведь не только для поэтов – для каждого русского – Пушкин: университет культуры! Нет, и вправду нельзя с Пушкиным так обиходно, небрежно… Да и мне б интересно, где у Пушкина: «простомыслие»?..
И я задумываюсь над тем, что вот есть такой в Москве хороший институт ИМЛ. Институт марксизма-ленинизма. Позвони – не спросят кто ты, зачем тебе – любую цитату тебе проверят, скажут в каком томе, на какой странице!.. Чтоб не было искажений, не было «вообще», «поверхностно», «приблизительно». Чтоб мысль не утратила в устной передаче! Сколько раз сам звонил, каждый раз с чувством гордости отмечал: насколько в первозданности мысль и ярче, и тоньше, и глубже! Сколько раз убеждался: память искажает, нельзя ей верить!
Вот бы и пушкинский институт такой открыть. Просто институт мировой классики… Любую строчку, строфу, абзац… Пушкин и Шекспир, Толстой и Лермонтов, Гоголь и Гёте… Пожалуйста! Или не надо? Интимное чувство утратится?.. На массовую культуру извести можно классику? Или, напротив, препона массовой культуре?
– Ну, о чем задумался, детина?.. Ох, уж эти авторы!.. Слушай, почему люди так трудно стали понимать друг друга? Издержка демократизации? Ну, нет «высших» и «низших», ну, равенство… И что же – дуралеев уже нет? Умных уже не стало?.. Ну, бог с ним, с умом и талантом… Хотя бы опыт мой уважай! Двадцать пять лет сижу тут, всем-всем строчки делаю, крови на донорство давно бы не хватило… И так почти каждому. Учитывай его творческую индивидуальность, его стиль, его неповторимость… Двадцать пять лет изо дня в день! Опыт – или нет? А редкий кто спасибо скажет… Не нужно мне и спасибо! Но неужели так уж трудно почувствовать, признать в ком-то чуть больше опыта, знаний: доброжелательство? А?.. Все якают! Сплошное – прописное! – я… А на деле – строчное, мизерное, личное… Якай – но как Аввакум или Сестра Мария! Как Лорка или Экзюпери! Самое маленькое «я» – их – «Мы», это их человек и Человечество! Или демократия только в детстве своем? Что думаешь?..
– То же самое… Не думай об этом… Просто делай необходимое.
– Что же, и поэты – «толпа»? Хотя – что такое ныне: поэт? Профессионал стихописания… Среди тысяч поэтов – ищи одного поэта! Пророка! Ради одного его – стоит затевать этот печатный марафон?.. Всегда верь и жди – грядёт? А читатель пусть их всерьез принимает?.. Уж как умеют – сеют разумное, доброе, вечное?.. Так сказать, на правах – популяризаторов хотя бы… Ну, выгружайся…
– Сам ведь сказал – «Жди – грядет!..». Еще не грянул… Даже не популяризаторы… Делающие попытки… Из них только один… Где его папка… Вот эта, кажется… Лиловая…
– Вот с нее и начинай. А то ненароком опять ввалится автор. Ведь не напишешь на дверях – «от и до». Скажут – бюрократ! Поэзия и бюрократия – две вещи несовместные! Давай, давай – лиловую папку… Блок любил лиловый… Может, симптоматично? Итак, лиловая папка! Что скажешь о ней. Есть в ней книга? Смогу извлечь? Высечь? Вылепить? Все «вы»! Смогу здесь «пойти на вы»? Мой нож она вы-несет?
Нежеланье славы
Он жил без быта, но полагал, что живет хорошо. Потому, что у него было все, что ему нужно было. На столе лежал хлеб, рядом с ним рукопись и чернильница. Как-то заметил он, как многозначительно для него их случайно оказавшееся соседство, и с той поры не стал убирать хлеб со стола. Он писал, временами взглядывая на покрытую коричневым, здоровым, напоминающим землю и солнце, загаром буханку. Чувство истинности и обязательство перед этим чувством, слышал он на душе – и продолжал писать.
Хлеб, вдохновение, любовь… Она теперь была где-то на юге, по путевке, и он взял себе за правило – каждый день писать ей письмо. Она отвечала изредка, когда ей хотелось это сделать. Как-то проговорилась, неудобно ей: весь санаторий знает, что ей пишут каждый день! Тут же спохватилась: «Но ты – пиши! Это я так, к слову…»
Его мучило то, что она его считала неудачником, снисходила к нему, шутливо, по-женски терпеливо и даже как бы беззаботно. Точно был вовсе не мужем ее, а неудавшимся сыном, и боль прикрываешь шутками, несешь по обязанности заботу, раз и навсегда смирясь со своей женской судьбой…
«Я всю жизнь – грущу о тебе, – писал он ей. – Я ни на что не жалуюсь, я счастлив. Только грущу по тебе. Всегда, когда ты рядом, когда мы вместе, я все одно грущу о тебе. Потому что – «Душу твою люблю». Грущу, потому что: счастлив. Что все кажется мне: не заслуженно счастлив… Это похоже на вечную влюбленность – и вечную разлуку… Все мне кажется, что с другим тебе было бы веселее. Ты, конечно, понимаешь, что даже то, что я «без имени», мало издаюсь, может, большее основание счесть меня настоящим поэтом, чем то, что иные, в наше время густо издаются, то и дело мелькают с экранов телевизоров, с полос газет… Всегда поэту надлежало утвердиться, явить в этом волю и характер – а я не хочу, я «стоически люблю свой рок»! В чем ныне дар поэта? В умении казаться поэтом? В умении утвердиться в печати? Береги господь, от такого успеха…
Ты понимаешь, улыбаешься, а все же, а все же – считаешь небось меня неудачником. Женщина всегда уважает успех, а это ныне: мнимость. И от этого мне тоже грустно. Я словно оправдываюсь. И необходимость эта – мне досадна. Хотя и понимаю ее тщету… О, если б я не так верил в себя!.. Но чем я докажу тебе, что, мол, «в иных обстоятельствах»… На беду, ты не из тех воробьих, которым кажется, что их воробей поёт лучше соловья… Ничего мне, право не надо… Ведь так легко счесть меня неудачником. Так традиционно. Писать стихи – и быть безвестным! Эстрадное время делает свой выбор – ничего тут не поделать. В поэзии я – любящая, молчаливая Корделия.
Считаю дни до твоего возвращения. Хоть знаю – все будет так же. Ты будешь рядом – а я буду грустить о тебе! Или счастье только таким и бывает? В сомненьях, грустным, суеверным?
Как бы мне хотелось, чтоб ты – ты одна! Больше никто! – поверила бы в меня!.. Как тебе это объяснить… Помнишь у Пушкина «Желание славы»? Вот и перепишу тебе его…
Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя, –
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальному упреков и похвал.
А я, я-то – могу ли про себя, хоть когда-нибудь подумать: «ты моя»?.. Нет, не ты мне даешь повод к сомнениям – я сам сомневаюсь… Я сам себя сделал бесправным на тебя: вот истинная мука!.. Вроде бы все то же: «ветреный свет», «суетное прозвание поэта», «долгие бури» – в смысле неудач, а мука куда как глубже, когда сам сомневаешься в своем праве любить, быть любимым. И все потому, что – «душу твою люблю»… Вот где начинаются самые трудные, самые грустные муки любви! О, это куда больше – обладания! Обладание душой самое трудное! А у Пушкина – оно несомненное! И, несмотря на это, такая мука, такая страстная исповедь!.. Здесь уверенность – в полном ответном чувстве, а все же – суеверный страх: вдруг лишится его. Как лишится самой жизни, ее смысла!