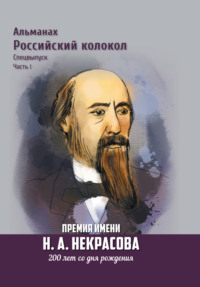Полная версия
Крещатик № 94 (2021)
– И о чём они говорили? – переглянувшись с Лутковским, спросил Ленц.
– Ни о чём, – недовольно ответила Аня. – О чём всегда. О футболе и о москалях. Напились как поросята и на войну собрались все скопом идти.
– Нормальный информационный поток, – констатировал Ленц. – Сейчас все переживают эти темы.
– Так уж и все, – скептически усмехнулась Аня.
– Футбол, конечно, можно заменить «Танцами на льду», – сказал Ленц, – но основная тема несокрушима. Вопрос «кто виноват, татарин или жид?» – самый актуальный вопрос для всех времён и народов. Этот вопрос даже беллетризировал господин Герцен, известный революционер и борец за гражданские права…
– Слушай, Аня, – перебил друга Лутковский, – а тебе не показалось, что этот Олег Глота не в себе?
– Нет, – коротко ответила Аня, показав резкой интонацией и видом, что не желает больше разговаривать на эту тему. При этом она вышла к барной стойке и оставила перед Ленцем и Лутковским чашки, из которых подымался ароматный пар.
– На нет и суда нет, – убеждённо сказал Ленц, хлопнув себя ладонью по колену и равнодушно, не замечая подмены напитка, отхлебнул из чашки. – А то хочешь, устроим всеукраинскую рекламу твоему бару. Вызовем сейчас Аркашу Кириченко, – неожиданно предложил он.
– А это кто еще? – Спросила Ленца Аня, тревожно посмотрев на него.
– Это тот жирный, которому Володя только что интервью давал.
– Никаких интервью у меня в магазине, – жёстко потребовала Аня. – И парень этот мне тоже не нравится, хоть он и грузный, но замороченный какой-то, – подумав, сказала девушка.
– Это сейчас он такой, – усмехнулся Ленц. – А еще недавно был парень хоть куда. И вообще, ты знаешь, что его отец чуть не лишил жизни самого Дэвида Боуи?
– Это как? – заинтересовалась Аня новым поворотом.
– Если коротко, то примерно так. Ты в курсе, что в семидесятых Боуи приезжал в СССР?
– Ну, наверное. И что из этого? – ответила Аня.
– Молодая. Не понимаешь, – усмехнулся Ленц. – А ты представь, что в то время подобная поездка считалась как значительный поступок. Это как сейчас в Северную Корею съездить.
– Простой пиар-ход, – вмешался в рассказ Лутковский. – Они с Игги Попом туристами поехали…
– Погуляли они по Москве, – перебил Лутковского Ленц, – сфотографировались, где надо, и отправились обратно. Поехали поездом Москва – Западный Берлин. Расположились в том самом вагоне, в котором проводником служил отец известного нам Аркаши. И вот, визуально оценив могучую фигуру старшего Кириченко, они возжелали его. Если ты не в курсе, то я доложу, что Боуи и его друг Игги были гомосексуалистами. Не знаю, что их там возбудило в молодом и статном вагоновожатом, может быть, форменная одежда на пуговицах с серпом и молотом, может быть, им просто захотелось поиметь советского человека неестественным для него способом, но, словом, процесс пошёл. Откупорили они бутылку водки, купленную в столице советского государства, и попытались поговорить с папенькой Аркаши на общие темы. Тот сначала по инструкции отказался пить с этой компанией, но через пару слов догадался, на что эти сукины дети намекают. И вот обуял его праведный советский гнев. Глядя на этих мужеложцев, он затеял недоброе. А затеяв, блестяще воплотил в жизнь свой грандиозный план мести. Итак, он присоединился к предлагаемому застолью, причём присоединился радушно, в комплекте со своей бутылкой коньяка. Потом еще раз сбегал и принёс бутылку, и в итоге накачал негодяев так, что те отключились лицом в подушку. Оценив беспомощное состояние рок-музыкантов, находчивый проводник спустил со своих обидчиков штаны и, проведя полоску клея между ягодицами, сплющил их своими трудовыми, кряжистыми ладонями на несколько секунд, как и было сказано в инструкции к этому герметику.
Аня рассмеялась и сквозь смех сказала:
– Этого не может быть. Это всё выдумки.
– Возможно, и выдумки, – ответил Ленц, – но пресс-конференция по итогам пребывания артистов в Союзе Советских Социалистических Республик была отменена.
– Здорово! – резюмировала свои впечатления от этой истории Аня. – Заклеил попу Игги Попу.
– Да, небезнадёжно, но скорее всего, это выдумка, – авторитетно подтвердил Лутковский.
– Но почему? – Спросил Ленц. – По отдельности все факты не фантастические, согласись. Во-первых, поездка была. Во-вторых, в купе эта скандальная парочка вполне могла спровоцировать на поступок даже человека с крепкими нервами. В-третьих, даже если Боуи и Игги не объявили себя открыто пидорами, то их внешний вид и манера поведения могли спровоцировать ответное дискриминационное действие у советского человека, тем более при исполнении. И в-четвертых, закономерный вопрос: отчего не посадили проводника? Всё просто, пострадавшая сторона не обратилась с заявлением в милицию. И согласитесь, даже сам акт заклеивания анальных отверстий ментально советский, мол, задницы всем пидорам позаклеивать надо. Так и звучит напористый пролетарский голос за этим приговором. Так что ничего в этой истории невероятного нет.
– И все-таки это брехня, – убеждённо объявила Аня.
– Не сотвори себе кумира, – наставительно сказал Ленц, – Ладно, не буду запальчиво утверждать, что это чистая правда, но, согласитесь, друзья, все мы не раз становились свидетелями самых невероятных историй, которые до устной или письменной реконструкции казались обыденными эпизодами, ну может, с лёгким налётом гротеска. Понимание эпичности произошедшего происходит позже, когда история выходит на уровень маловероятной легенды. В любом случае, человек, рассказавший эту историю, был человеком с фантазией.
– Вопрос, старший или младший из Кириченок был этим человеком? – уточнил Лутковский. – И почему был? А сейчас?
– А сейчас нужно позвонить закадычным закадыкам и обсудить дальнейшие планы на вечер. Уже, между прочим, без десяти четыре, – Ленц рукой указал на часы, висевшие у Ани на стене. – Володя, продиктуй мне номера друзей. Возобновлю записную книжку.
Лутковский протянул другу свой телефон: – Держи, смотри сам, кто тебя интересует.
Ленц с отстранённым видом смотрел в экран телефона и, тихо приговаривая – «меня интересует, меня интересует…» просматривал телефонную книгу Лутковского. Время от времени он останавливался на знакомых фамилиях и расспрашивал о них так, как будто не видел этих людей много лет, хотя в Киеве отсутствовал всего полгода.
– Коваль Миша, где сейчас?
– Где и был. В заднице, – ответил Лутковский.
– В какой именно? – уточнил Ленц.
– У него батя помер. Он продал его квартиру. Открыл бар и реанимировал свою группу. Бар мог бы и работать, но группа его всех посетителей распугала. Я там презентацию книги устраивал…
– Андрюха Ковач?
– В невменухе. Теперь всем телевизор пересказывает. Тем, кто не верит «проверенной информации», устраивает форменные истерики.
– Это как? Он же вроде бы не поддерживал Майдан.
– Натурально. Он до марта 14-го Майдан не поддерживал. Но первого марта марочку кислоты с Гагариным купил, чтобы на космос посмотреть. Нализался, и тут телевизор ему сказал, мол, Путин объявил войну. Натурально, Ковач очень испугался говорящего телевизора и его вместо «на космос» пробило «на сердитый». Крышу сорвало напрочь. Он погнался за ней с криками «Героям слава». Прибежал ко мне на дачу в Бучу. А у нас здесь аэродром. Самолёты страшно гудят. Он, наверно, подумал, что это русская авиация, и начал в небо дули крутить и громко орать о любви к родине. Короче, пока его таксист-сосед кулаком в лицо не выключил, творил всякие безобразия.
– Кстати, о нём я слышал, что он перед администрацией родной Смелы себя пивом облил и пытался совершить самоподжог, в знак протеста против каких-то там договорённостей с сепаратистами, – сообщил Ленц.
– Очень может быть, – с досадой ответил Лутковский. В своё время с Ковачем они очень дружили. – Ты знаешь, – подумав добавил он, – он когда-то телевизор молотком разбил. Говорил, что хочет таким образом обезопасить себя от навязанной ему реальности.
– Телевизор молотком по голове не убьёшь, – угрюмо ответил Ленц.
– Раньше так чёткость изображения подстраивали, – усмехнулась Аня. – Били кулаком по телевизору и слушали, что он ответит на это.
– Ладно, где Оля Павлова? – задумчиво продолжил опрос Марк.
– Она теперь Шматкевич. Замуж вышла. Кстати, резко перешла на мову. Пишет об этом в Фейсбуке. Срывает бешенные аплодисменты патриотической публики.
– А за кого замуж вышла?
– За Шматкевича. Не знаю, кто он. Из Гродно прибыл к нам. И чем обольстил Олю, не в курсе. На нем татуировки в виде белорусской вышиванки, может быть, этим. Они сейчас в Польшу перебрались.
– Майборода?
– Кино снимает, про войну.
– Где снимает?
– Здесь, под Киевом. Только я к нему не поеду. Вокруг него уже новая компания.
– А Кулиш Миша?
– В тюрьме сидит.
– Как в тюрьме? – с весёлым удивлением спросил Ленц. – Он же совсем не в политике был! Только не говори, что он радикализировался до неволи.
– Да какое там, – махнул рукой Лутковский. – Он в Буркина-Фасо сидит. Ему там негры три года дали за то, что он утром по саванне с двумя бивнями шёл.
– Как это? Он же стрелять не умеет, не охотник до охоты.
– Да уж, не охотник. Он и не охотился, – усмехнулся Лутковский. – Как ему с таким весом за слонами бегать? Всё проще. Слоны на протяжении многих тысяч лет помирали естественной смертью, но бивни их оставались нетленными. С местными копателями договариваются наши авантюристы и на этом зарабатывают.
– А Миша?
– А Миша сидит в тюрьме. Трое вышли из-за баобаба и представились при исполнении.
– Откуда такие подробности?
– Так Ксюха за ним поехала. Как жена декабриста. Кстати, она рассказывала, что в тюрьме он там самый уважаемый человек, так как самый белый и самый толстый среди невольников.
– Класс! Но об этих героях не пишут в газетах, – резюмировал Ленц, глядя на экран телефона. – Тихонов?
– Этот счастлив. Ненавидит москалей. Участвует в факельных шествиях. В масленицу агитировал за местные вареники вместо москальских блинов. В общем, обрёл себя хлопец. На вид спокоен и уверен. Взгляд устремлён в светлое будущее.
– Понятно, – равнодушно вздохнул Ленц.
– Его Юра Мельник троллит, грозит упаковать в смирительную вышиванку.
– Что ж такое, учились в одном классе и давят друг друга. Где Юра, кстати? Там же, в дурдоме?
– Да, из буйных психов добрых граждан делает. Защитил диссертацию о влиянии толпы на личность.
– Тема. В яблочко.
– Я, кстати, с ним и с Феликсом Сикорским ходил на факельное шествие. Собственно, Феликс меня и Юру туда затянул. Атмосферка, я скажу тебе…
– Постой, как с Сикорским? Феликс на факельном шествии?
– Ну, у него профессиональный интерес.
– Это у тебя и у Мельника профессиональный. С Сикорским что-то не так. И друзей он всегда сторонится. Даже Новый год один встречает.
– Я сам удивился…
– А где он сейчас? Давай ему позвоним, – засуетился Ленц.
– Он в Китае сейчас, по-моему, – пожал плечами Лутковский. – Фотки Мао постит оттуда.
– А что он там делает? – спросил Ленц, набирая номер на своём телефоне.
– Не знаю. Может быть, издатели пригласили. Или просто экскурсия в Поднебесную.
– Алло…
14
«Книги, друзья мои, надо печатать на бумаге, которой можно подтереться. И только те книги, которые пройдут испытание санузлом, станут бессмертными. Прочие, с трепетом выпавшего из гнезда птенца, забьются в смертельных конвульсиях в сливном потоке времени и пропадут в черной дыре истории», – подобные наглые констатации были нередкими в блоговых записках Сикорского. Он вообще был странным человеком с тяжёлой репутацией в литературных кругах. Его поведение было порой пугающее, порой не от мира сего. У него была та внутренняя свобода, которой опасались люди, даже близко знавшие Феликса. Он не боялся публики, и это выделяло его среди литераторов. Сакральные, внутренние темы, которыми обычно не делятся на людях, вызывали его живой интерес. Он мог рассказать о смерти дочери в шокирующих подробностях и тут же переключиться на анекдот о бывшей жене. При этом многие понимали, что это был с его стороны не спектакль, не пошлая игра в цинизм на публику ради сомнительного статуса чудака. Это была его природа. Тут, правда, стоит добавить, что таким странным образом он открывался не перед всеми. Для большинства Сикорский был замкнутым человеком с прозрачным взглядом сомнамбулы и еле заметной блуждающей улыбкой наблюдателя. Лутковский как-то заметил в разговоре, что жизнь Феликса напоминает пристальное любопытство постороннего при препарировании разлагающегося трупа.
Сикорский редко появлялся в формате светской тусовки, хотя его статус довольно известного писателя открывал перед ним двери клубов и салонов, в которые пускали только по спискам. Чаще его можно было встретить в богемных притонах с сомнительной публикой, где он сидел молча и, кажется, не слушал пьяных, крикливых рассуждений стрессонеустойчивых молодых людей о стихах и прозе их собственного сочинения.
При своей довольно значительной известности среди читающего сообщества Сикорский не был литературной знаменитостью. Со стороны казалось, что он просто не умеет себя вести как культовый писатель. Он насмешливо, но как-то неблестяще, неуклюже избегал нужной тусовки и необходимого самопиара, реализуя себя (его выражение) в иных плоскостях. Впрочем, по версии людей, знавших его близко, он просто не хотел этого статуса, сознательно отказавшись от ненужной ему популярности.
Друзей у него было немного. Кроме Лутковского и Ленца были еще пара человек, которым он доверял – бывшая жена, врач-психиатр Юрий Мельник и какой-то алкаш, по имени или по прозвищу Герасим, непонятно почему заинтересовавший Феликса.
К революционным событиям Сикорский отнёсся не с прямолинейностью революционера или контрреволюционера, но как-то по-своему. После победы Майдана он прямо заявил, что беспорядки в столице ему нравились как зрелище, но к поражению власти он относится негативно, чем вызвал тогда ненормативный гнев националистов и пламенные истерики националисток. Сделав пару апокалиптических заявлений, на которые никто не обратил внимания, Сикорский, казалось, отошёл от бурлящей нечистотами темы революции и замолчал. Но всё же время от времени он напоминал о себе различными экстравагантными выходками, такими как, к примеру, упомянутое Лутковским участие в факельном шествии. Зачем ему это было нужно, никто не знал. Своих выводов от увиденного Феликс не публиковал. Пока, по крайней мере.
Именно об этом «пока» и разговорились Володя и Марк, идя на встречу со своим другом. Сикорский с неожиданной радостью согласился на предложение выпить и закусить где-нибудь под уютным забором, хотя и предупредил о том, что во времени он ограничен. Договорились, где встретиться и во сколько. И вот, широко и развязно шагая к центральному почтамту, в возбуждающем предчувствии нового этапа пьянки, Ленц с любопытством расспрашивал о впечатлениях от шествия националистов.
– Так вы тоже там орали, что Бандера ваш герой?
– Конечно же, орали. Причём с выпученными глазами и пеной у рта. Я даже подивился своей искренности. Ты же знаешь, я не националист.
– Это ты опять не националист, – едко заметил Ленц, – а когда маршировал в строю, был им. Непременно был. Сам же сказал, что в искреннем порыве выкрикивал лозунги.
– Ну, не так искренне, чтобы в погромах участвовать.
– Аппетит приходит во время еды.
– Да ну тебя в жопу.
– Эх, жаль, меня с вами не было. И как это я сам не догадался?
– Ты что, не насмотрелся как маршируют? Сам-то откуда приехал? Забыл?
– Я из марширующего строя хочу посмотреть на прохожих, то есть на условно нормальных людей, – сказал Ленц, глубоко вздохнув и не обратив внимания на замечания Лутковского. – А вообще, как они тебе показались?
– Кто они?
– Прохожие.
– Фотографируют.
– Навалив в штаны?
– Хер знает, за вспышками не видно.
– А по характерному запаху?
– Что-то развезло тебя, я вижу, – заметил Лутковский.
– Фигня. Ты лучше на вопрос ответь.
– На какой?
– Запах улицы изменился от вашей железной поступи?
– Я не принюхивался. Ты у Мельника спроси, он специалист по психическим девиациям толпы.
– Спрошу, конечно, при случае. Но если честно, не люблю я его. Смотрит на тебя как на лабораторную крысу.
– Это как?
– Равнодушно, – и прервав возможные возражения друга, Ленц насмешливо потребовал ответа на ранее поставленный вопрос, – ты всё-таки не ответил на вопрос о липком запахе улицы.
– Дерьмом не пахло, не помню, факелы чадили.
– Ну ты молекула, Володя. Не разнюхать самого главного. Страх обывателя. Это даже круче, чем обожание толпы. Вот за этим, наверное, и попёрлись Сикорский и Мельник на этот карнавал.
– За чем – за этим? Дерьмо прохожих нюхать?
– Да.
– Кстати, по поводу трепещущей толпы ты не обольщайся, – насмешливо заметил Лутковский. – Я выходил из строя по нужде. А после шагал рядом с шествием, и честно говоря, никакого страха обывателя не увидел. Несколько ёбнутых, всё остальное привычный, любопытный Майдан. Или равнодушные.
– Да не равнодушные они, Володя, – обрушился на Лутковского Ленц. – Разве ты сам не почувствовал? Интуитивно ведь почувствовал их страх. Понятно, что люди не бегали по улице и не орали в ужасе, не прятались за углами или под юбками своих жён-торговок. Потому что страх – это не трусость. Страх – это переживание, трусость – поведение. Страшно и герою, и трусу. Страх объединяет всех против всех. Вот этими сакральными токами ты и проникся, – Ленц, взволнованно достал и закурил сигарету, после чего продолжил. – Всё, конечно, здесь переплетено инстинктами, но страх в этой путанице – самое молчаливое, потайное, шестое чувство, о котором сам человек может даже и не догадываться. Ты это всё интуитивно ощутил, Володя, и пришёл к определённым выводам. Отсюда твоя искренность речёвок. Но тут, кстати, под лозунгами, маршировала не твоя индивидуальность, а общее, коллективное бессознательное, первобытное, идущее в ногу вместе со всеми. Стая. Опустившись до животного уровня, ты, Сикорский и те, кто шагал с вами рядом, стали одним пугающим целым. Вот тогда вы, как всякое хищное существо, уловили это напряжённое молчание тех, кто вас ненавидит, боится.
– Куда тебя понесло, Марк? – перебил друга Лутковский. – Инстинкты, физиология, это всё так заезжено доморощенными пьяными философами типа тебя. Психология толпы – Лебон, Юнг, Фрейд и прочая терминология. Кстати, – усмехнулся Владимир, – моя юная родственница рассказала мне, что одна из её подруг живёт на Крещатике. Окна квартиры выходят ровно на улицу. Так вот, каждый раз, когда там происходит очередная факельная иллюминация, они с друзьями и подругами заводят специально купленный граммофон с пластинками кабаре Веймарской республики, одеваются в платье того времени и безобразно кутят, цитируя поэзию немецких декадентов. Вот тебе отличная, хотя и банальная иллюстрация к твоим понятиям о страхе.
– Конечно, банальная. Как всякая неосмысленная природа. И поддавшись этой природе, всякая индивидуальность растворяется в общем настроении. Твоя богемная молодёжь не оригинальна в своём «пире во время чумы». И именно отсюда твой восторг во время шествия, который ты объяснить не можешь. Те, кто с тобой рядом шли, не исключая Сикорского, тоже шли за переживаниями. Они знали, что их боятся прохожие. Боятся и камуфлируют свой страх под уважение, равнодушие или пьяный декадентский разгул. Вот ты, когда только шёл на марш, ощущал мандраж?
– Ну да, было не по себе.
– Вот и Сикорскому, небось, тоже не по себе было. Может, он и взял тебя с собой именно поэтому…
– Нет, – перебил Ленца Владимир, – у него там были знакомые, тёмные связи какие-то. И мы маршировали в самом активе, не как приблуды, а с факелами в руках.
– После бухали?
– Да.
– Класс.
– Ничего хорошего. Мельник свалил еще на марше, а Сикорский молча нажрался до блевоты. Так что пофилософствовать на тему не пришлось.
– Как это молча? Хоть какие-то комментарии были?
– Наверное. Помню, мы тогда включили телевизор, а там новости, в том числе и о нашем походе. Огни, знамёна, речёвки. И глядя на это всё, я вдруг понял, что и мне и ему стыдно друг перед другом. Непонятно почему, но стыдно. Сикорский вырубил трансляцию и пробормотал что-то типа – телевидение – это стойло для скота, а история человечества – это спор с примерами между Богом и дьяволом.
– Это такое, третьесортная повторяемая теософия для тех, кому сказать нечего, – махнул рукою Ленц.
– И я так считаю.
Разговаривая таким образом, друзья скоро прибыли на Майдан Независимости и подошли к зданию почтамта.
Под колоннами, у центрального входа главного почтового отделения страны, где Лутковский и Ленц договорились встретиться с Сикорским, было, как всегда, людно. Это было известное место для встреч. Здесь назначали свидания влюблённые пары, «забивали стрелки» деловые люди, аферисты, договаривались о встречах друзья, собутыльники, туристы и прочее пёстрое население столицы. В последнее время это пространство стали заполнять люди с радикальными политическими взглядами. Под колоннами, на которых революционный Майдан оставил надписи о своей победе, теперь нередко располагались психически неустойчивые пропагандисты, нечленораздельно агитировавшие прохожих следовать за ними, к новым, вернее, окончательным победам. Впрочем, люди, не обращая на них внимания, спешили по своим делам. Огибая лотки с сувенирно-патриотической продукцией, они растворялись в вечной галдящей толпе центральной площади Киева.
Группа весело гомонящих детей в сопровождении строгих взрослых строилась в колонны по двое и, держась за руки, взволнованно заходила вовнутрь помещения почтамта. Один из мальчиков оступился и упал, при этом нечаянно зацепив девочку, шедшую рядом с ним. Девочка вскрикнула, немного подалась вперёд, но устояла на ногах. На этот шум оглянулась одна из воспитательниц. Она скоро подошла к упавшему малышу, подняла его, отряхнула и строго приказала не хныкать перед девочками. Мальчик и не думал хныкать, но от слов взрослого человека отчего-то смутился. Неожиданно из уходящего строя детей выбежала та самая девочка и с каким-то испугом заявила, что мальчик нарочно толкнул её. Мальчишка удивлённо посмотрел на голубоглазую в белоснежных бантиках ябеду, дёрнул рукой и, освободившись от хватки воспитательницы, упрямо остановился. Та приказала всем стоять и что-то проговорила малышу, причём по доносящимся невнятным отголоскам в её голосе явно звучали просительные интонации. Детский строй при этом, несмотря на приказ не расходиться, потерял чёткую линию и растёкся по воле детей в бесформенное столпотворение. Мальчик оказался в центре внимания своих одногруппников. Неожиданно сначала один, затем несколько детей начали обвинять мальчишку. Вскоре эти дети возбуждённым хором поведали курирующим их взрослым, что видели, как мальчик специально толкнул девочку. Обвиняемый малыш был поражён этой несправедливой атакой. Он серьёзно насупился и заложил руки в карманы. Было видно, что дети настолько увлеклись этой ложью, что уже искренне верили себе и друг другу. Дети подошли ближе к испуганному мальчишке, и тут он не выдержал. Он попятился, как-то болезненно скривился, взглядом нашёл воспитательницу, и тут же протянул к ней руки, интуитивно прося защиты. Женщина взяла ребёнка за руки и обратилась к одному из детей:
– Коля, как ты мог видеть, что произошло, если ты шёл впереди строя? – спросила она.
– Видел, видел – убеждённо подтвердил Коля. – Он толкнул.
– Ну хорошо. Ещё поговорим об этом, – сказала воспитательница и повела детей за собой.
Лутковский довольно прищурился и прокомментировал увиденное:
– В общем, получилось трогательно. Но я ждал большего.
– Ты о чём?
– Об инстинктах.
– Обычная история, – пожал плечами Ленц. – Ложь – это главное открытие детства.
– Я думал, любовь, – усмехнулся Лутковский.
– Я бы сейчас выпил, да место людное.
– Не ной, вон Сикорский идёт.
15
Друзья взяли бутылку текилы, апельсиновый сок и лимон. Феликс предложил было ограничиться легким вином, намекая на безоблачное состояние Ленца и Лутковского, однако те легкомысленно отмахнулись от этого предложения. С тем и двинулись по направлению к памятному пустырю.
Шагая к месту, Лутковский внимательно рассматривал обгоревшее здание дома Профсоюзов. Когда-то здесь был штаб революции со своей суетой и неразберихой. Сейчас мёртвые стены здания завесили грозными плакатами, возвещающими о победе народа над тиранией. Ржавые цепи разрывали мускулистые руки. Со стороны звенья оков скорее напоминали разорванные кольца недорогой полукопчёной колбасы. Это развеселило Лутковского. Владимир хотел рассказать друзьям о своем наблюдении и даже улыбнулся в предчувствии остроумных комментариев, но что-то неприятно задело его и он, с досадой махнув рукой, продолжил путь молча.