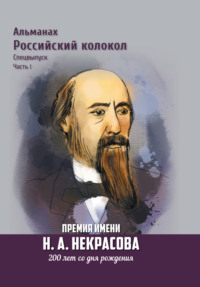Полная версия
Крещатик № 94 (2021)

Крещатик № 94 (2021)
Альманах
Руководитель проекта Борис Марковский (Бремен)
тел. (+49) 421-522-647-65
borismark30@T-Online.de
markovskyi@rambler.ru
Главный редактор Елена Мордовина (Киев)
тел. (+38) 067-83-007-11
kreschatik@rambler.ua
Зав. отд. прозы Игорь Савкин (Санкт-Петербург)
Зав. отд. поэзии Герман Власов (Москва)
german_vlasov_2016@mail.ru
Редакционная коллегия:
Татьяна Ретивова (Киев),
Вячеслав Харченко (Москва),
Игорь Силантьев (Новосибирск),
Борис Констриктор (Санкт-Петербург),
Петр Казарновский (Санкт-Петербург),
Максим Матковский (Киев),
Виталий Амурский (Париж),
Александр Моцар (Киев),
Айдар Хусаинов (Уфа)
Креативный директор
Андрей Коровин (Москва)
© Крещатик, 2021 г.
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021 г.
* * *Евгений ЧИГРИН
/ Москва /

«Никуда не ходи», – говорит
Мозг расплавленный вязкой жарою,
Снился с книгой дождя не друид,
Но похожий: стоял над рекою,
Заклинанья шептал-бормотал,
Цветом с местом сливались лохмотья,
Разливал старый месяц нектар,
Мглу зелёную певчая рота
Прошивала. Стоял над рекой
Тот похожий, выпрашивал тучи,
Под мостом ошивался смешной
Призрак жизни, конечно не лучший.
Призрак смерти баркас отвязал
И отправил себя за незримым.
Мозг от жизни чертовски устал,
А случалось, бывал одержимым
Чем-то важным. Теперь ерундой
Так набит, точно птичками Пришвин.
Твой двойник всё стоит над рекой?
Всё стоит. Ну вот так и запишем
В память неба. Жара нарасхват.
И не в пользу двуногих прогнозы.
То ли это июнь, то ли ад…
В ожидании метаморфозы.
* * *Парки в парке парились на солнце,
Жёлтый луч подкатывал к ежу,
Жизнь смеялась в смуглом стихотворце:
Доверялся мир карандашу.
Жизнь смотрела ангелом джинсо́вым
В пурпурном старинном колпаке,
Облаком большим и мотыльковым…
…А внизу покойники к реке
Шли вдвоём, конечно, на свиданье
С демоном Хароном, налегке:
Каждый нёс последнее прощанье,
Тот, что в шляпе – гиацинт в руке,
Тот, что в кепке… Впрочем, что там кепка,
Если столько солнца на двоих.
«Человек привязан к жизни крепко», —
Кто сказал? Читатель детских книг?
Децима, планидой наделяя?
Морта, перерезавшая нить?
Ангел в синем держит вымпел рая,
Никого не хочет торопить…
Ангел в синем. Парки в парке летом.
Нет Харона да и Леты нет.
Кто спешил за несмертельным ветром
Превратился в самый чистый свет.
* * *Стоит и смотрит твой двойник на то,
Как на луне расселся чёрт двурогий:
На нём по моде, в клеточку, пальто
И некому сказать: куда вы боги
Глядите, а? Всё чаще Сатана,
Своих расставив по местам, смеётся,
Флюидной ведьме говорит: «вина!» —
И ведьмовское пойло шире льётся,
Чем это многоточие… Двойник
Просунул тело в старость – вот не радость —
Не то чтоб сник… пожалуй, всё же сник…
Болеет чаще. В хилом теле слабость
И птицы, те, что к веточкам души
Слетались часто – позабыли это.
Приятели в загробный лес ушли,
В них амнезию подсадила Лета.
А он остался доживать свой бред,
Цейлонский пить, смотреть кинострашилки:
Видал в гробу Варлей (сыграла Смерть),
А троглодиты свой открыли цирк и… —
И ничего. Сестра в другой стране:
Молчит по скайпу, и WhatsApp в отставке.
Двойник заснёт: мерцает жизнь на дне…
Проснётся в пять: лежит тенями в Кафке,
И мается, как в сказке: дед Кощей,
Служившую могилой с бедным мохом,
Избу на курьих предлагает – щедр
К приматам и другим некрепким лохам.
* * *…Гонит лунный пастух на луне
Бледно-жёлтых одну-две коровы,
А в моём почерневшем окне
Все кусты и деревья готовы
Обнажиться, предаться дождю,
Прокатились на молнии черти.
Медноцветную лупит листву
Водный бог, точно в поисках жертвы.
Всё залило. В деревьях вода,
Подмосковные розы промокли.
Вторник смыт. Водяная среда.
Где-то рядом промокшие мойры,
Что любую планиду легко
«Могут выткать в своей полудрёме…» —
Так Дюма королеве Марго
Обещал написать в новом томе.
ОКНАСова воображения к сове
Потянется. Мелькнёт Кощей бессмертный
В твоей, набитой хламом, голове,
Затем двойник, такой же интровертный
Нас стул присядет, и переберёт
Твои дела, и вымахнут обломы.
Соткётся ворон и колдун зайдёт —
Откроет рот, в котором пламя домны…
Окно откроешь, за окном дурдом —
Почти Аид и дети из Аида?
Вот угадай с трёх раз: они о чём?
Над головами их башкою гидра
Трясёт зачем? Ну, без подсказок тут!
Эй, пёс Аида, пасть закрой, по фене
Мы тоже знаем veri-veri gut,
И вам салют, египетские тени.
В окне втором… закрой-закрой-закрой,
А то узнаешь, где зимуют раки,
Которые повязаны с горой:
Гефест в ней спрятал огненные страхи.
А в третьем – ты не хочешь рассмотреть —
«Двор Сатаны» насечено на стеле…
Закрой-ка рот, не в жилу рифма «смерть»,
Присядь-ка в кресло. Что ты, в самом деле,
Так стушевался? Всякий стих хорош,
Когда Кощей мелькнёт, а совы только
Свихнут воображения на грош…
Синеет в чёрном облаков пелёнка.
* * *Ты тоже видел Азазелло,
Убийца-демон шёл на дело,
Поразвлекаться-убивать.
Клык изо рта, широкоплечий,
Весь соткан из противоречий,
А сколько девок шли в кровать
К нему?! Умел и всё такое…
Не ты ли (дело молодое)
В монстрообразного играл?
Навряд ли с эфиопской книгой
Еноха ты знаком был. Цыкай
На тех, с которыми «Opal»[1]
Мешал с убойной коноплёю,
Смущал ундин, что над рекою
Встречали песней Рождество.
А дома видел – из трельяжа
Сигал тот демон. Персонажа
Ты ждал и вышло колдовство.
А дальше – больше: виски в баре,
Химеры, глюки, ссоры, твари
И, sorry, рядом муравьед
Гигантский, даром что беззубый,
Захочешь видеть, все Ютубы
В таких зверищах – мерзкий бред.
Теперь ты стар, как вещий филин,
Себе противен, чаще смирен,
Подруги скрылись и т. д.
И в этом вот «т. д.» житуха,
Все новости теперь вполуха
Ты слышишь, и не слышишь где
Случилось то, другое, третье…
Кто сдох на Брэдбери-планете?
Летишь в сновидческих мирах
С убийцей-демоном. В натуре,
Так лучше, чем в зайчачьей шкуре,
Вот что зависло на устах.
Ты б выпил кровь барона?[2] Выпил?!
Смотри, вот чаша, только выстрел
Вас разделяет. Ну так как?
Холодный рыцарь Азазелло
Тебя поднял, и бросил… Гелла
Плюётся в твой аморфный прах.
* * *Сад говорил на языке жар-птицы,
Которая вчерашней сказкой снится
И, как всегда, сулит жемчужный клад.
Возможно всё, когда листвой смущённой
Нагнётся жизнь и мальчик изумлённый
Обнимет в сновиденье яркий сад.
Сад скажет: что ты потерял, ребёнок,
Тебя как будто видел я спросонок,
И забывал в потерянной листве?
Кого ты ищешь, твой Мегрэ из книжки,
Скурив две трубки, не откроет фишки:
Кто твой отец? И с кем ещё в родстве?
Глаза отводит старый сад, а ветер
Перебирает тех, кого приметил
Когда смотрел, как дождь смывает все
Следы того, кого признал бы малый,
Селена впишет грустный взгляд в сценарий
И остановит луч на той слезе,
Что спрятана в подушку. Мальчик вырос…
Отец – душа на ветер, торс – на вынос,
И мать ни взглядом, ни молчаньем не
Поможет больше. Там за облаками
Вздыхает Тот, что вместе с рыбаками…
Сад с головой в рубиновом огне.
Евгений КАМИНСКИЙ
/ Санкт-Петербург /

маленькая повесть
Мертвая зона Индийского океана – пустыня. Правда, с особенностью: тут вместо моря песка море воды. Но остальные признаки пустыни налицо: солнце, жарящее как сковородка, одиночество, тоска. Ну и жажда. То есть голод. Голодуха…
Примерно в шесть утра, измерив за ночь то, что было положено, на своем рентгеновском анализаторе, Бызов босиком (было приятно ощущать пятками остывший за ночь металл палубы) отправился на поиски летучих рыб.
Летучие рыбки теперь, после того как Бызов почти победил морскую болезнь, были его надеждой и спасением.
Эти летуньи то и дело выпрыгивали из воды и пытались перелететь судно. Тем, что пытались лететь поперек судна, это удавалось. Те же, что имели наглость делать это вдоль, шлепались на корму, бак и полубак, и становились добычей Бызова. Тот употреблял их сырыми, с головой и костями (рыбьи крылья он не ел из уважения к любым крыльям). Употреблял, правда, предварительно вскрыв рыбок, всыпав в каждую щепоть соли, туго перетянув вскрытых и посоленных бечевой и потом на несколько часов заложив в морозильную камеру. Этому его научил таллиннский рыбмастер, подвизавшийся в этом легендарном научно-исследовательском рейсе палубным матросом.
Насобирав летучих рыбок – сегодня их было три, и каждая весом не более ста граммов – уже уснувших на свежем воздухе и без предсмертного ужаса отошедших в мир иной, потому-то потрошителя Бызова в данном случае нельзя было считать полновесным душегубом, он отнес их к холодильнику судовых фотографов – важных для успеха этой экспедиции специалистов, обеспечивающих фотосъемку морского дна на глубине в шесть с половиной километров с помощью автоматических камер собственной конструкции.
Подготовив пищевую закладку, Бызов сунул ее в морозилку и пошел спать, предвкушая минуты, когда, пробудившись, одну за другой съест рыбок.
Сегодня Бызов отказался от сушки сухарей.
Обычно после заготовки рыбок у него еще оставался трудовой энтузиазм, и он шел на камбуз, где уже тяжело ворочал сковородами и кастрюлями измученный кок, брал у того вчерашний хлеб и резал, резал, резал – делал заготовки для сухарей. Эти заготовки Бызов относил к судовой трубе (здесь всегда был жар) и раскладывал присоленные хлебные кусочки по дну жестянки от балтийской сельди пряного посола, лежащей на горячем металле, чтобы ровно в шестнадцать тридцать, когда команду позовут пить чай, у него было с чем его пить. Пшенную, манную и перловую каши Бызов не переносил на дух, а хлеб с прогорклым сливочным маслом в него категорически не лез. Да и кусок сыра с потемневшими, как подол плаща, краями, не очень-то вдохновлял.
Сухари да летучие рыбки были для Бызова альфа и омега его существования в этой пустыне. Совсем как акриды для Иоанна Крестителя.
Соленые сухари никогда не вызывали в нем отторжения. А подмороженные рыбки питали его мозг и плоть. А иначе как протянуть полгода в пустыне?!
Морскому делу геофизик Бызов не был обучен, и потому, впервые попав в море, обречен был нищенствовать и побираться. Поначалу (первые две недели) он надеялся на то, что все ему здесь будет, и потому ни о чем не беспокоился. И пока он надеялся и не беспокоился, члены команды выметали все съедобное из судовой лавки и растаскивали это по своим каютам.
Бывало идущий по коридору Бызов натыкался на моремана, тащившего на горбу, помимо ящика с тушеной говядиной, еще и копченую свиную ногу. Мореман весело подмигивал Бызову, мол, вот, ногу оторвал у второго. (Второй помощник капитана ведал лавочкой, и в вечерние часы, покрикивая как баба, становился за прилавок.)
И на что только надеялся Бызов, если стоимость продуктов, положенных каждому на суточное питание на этом судне, не должна была превышать девяносто копеек?!
Уж так решили в министерстве большие государственные люди, может, и не вникавшие как следует в жизнь маленького человека, зато много чего понимавшие в жизни вообще, когда однажды озаботились необходимостью ввести для советских граждан на судах дальнего плавания хоть какой-то ранжир на харчи.
Не всем же, ей-богу, поровну, если коммунизм еще не наступил?!
Не всем же одинаково сытно и вкусно, когда изобилие еще не достигнуто?!
Есть ведь большие люди, а есть маленькие, которые, конечно, хотят стать большими и потому трудятся, не покладая рук и не жалея себя. Одним словом, в поте лица своего едят хлеб свой. Нет, ничего хорошего не получится, если на пропахшем килькой сейнере измазанному тавотом рыбаку во время обеда предложат на тарелочке с каемочкой те же разносолы, что и обряженному в белоснежный китель с золотыми нашивками штурману круизного лайнера. Ведь тогда маленькие люди с рыболовецких сейнеров еще до прихода коммунизма почувствуют себя полностью удовлетворенными. И вместо того чтобы сливаться в едином порыве у туго набитого килькой трала, приближая тем самым коммунизм, станут валяться в койках, забив на коммунизм и вяло ковыряя спичкой в зубах. Ковыряя да поплевывая.
Ну и ввели министерские тузы правило: сколько тонн водоизмещения имеет твое судно, на столько копеек и будешь питаться. Правда, спохватившись, водоизмещение поделили на десять. Так что если водоизмещение твоего СРТМ девятьсот тонн, изволь выжить на девяносто копеек в сутки.
Понятно, что на рыболовецких траулерах подобный бюджетный рацион рыбаки добирают выловленной рыбой. Но бызовский СРТМ не ловил рыбу, а поднимал на борт железомарганцевые конкреции со дна океана. Причем в местах, где рыба не водилась. Никакая, кроме, конечно, несчастных летучих рыб и акул.
Но кто считает акулу рыбой?!
Хотя та – самая настоящая рыба из надотряда хрящевых.
На довольно длительных (пяти-шести часовых) стоянках на «точке», пока осуществлялся спуск и подъем грейфера (ковша, черпавшего донный грунт с конкрециями), все свободные от вахты развлекали себя ловлей акул.
Этих всех интересовал исключительно процесс да, пожалуй, акульи челюсти, которые можно изъять у выловленной твари, покрыть лаком, и по возвращению домой предъявить родным в качестве трофея.
И только для двоих – боцмана и бызовского соседа по каюте – это был промысел. Боцман изготавливал из акульих хребтов пижонские трости, чтобы дарить их важным в пароходстве людям. Сосед же срезал с выловленных акул плавники и, высушив их на солнце, совал в холщевый мешок, который поначалу прятал в общей с Бызовым каюте, но когда Бызов взвыл от нестерпимой вони, перепрятал в трюм. (В Сингапуре сосед сдал плавники в один из рыбных ресторанов и заработал на японскую стереомагнитолу, джинсы «Леви Страус» и двое наручных часов «Seico» и «Casio».)
Бывало, вооружившись ножом поострей, стараясь не дышать носом, Бызов отделял от выловленной акулы челюсть, зубы которой всякий раз незаметно резали ему до крови пальцы и ладони. От акулы пахло мочой. Так несло, что Бызову приходилось дышать ртом, на время отключив обоняние.
Тем не менее, всякий раз препарируя, Бызов любовался акульей плотью: в разрезе акула напоминала… осетра, которого Бызов застал еще на прилавках продмагов времен правления кукурузника Никиты Сергеевича.
И время от времени, когда особенно хотелось есть (так хотелось, что Бызова, как несчастную скрепку к магниту, тянуло на камбуз, и только ударяющий в нос на подходе к камбузу запах подгоревшего в комбижире лука сдерживал Бызова от решительного броска к котлу с крутящимися в нем мослами), его посещала безумная мысль: а что если вымочить акулу в маринаде и тем самым отбить запах мочи?
Тогда, возможно, получится осетрина!
Раздался голос вахтенного штурмана, приглашавшего команду обедать, и Бызов бодро открыл глаза.
Можно было, конечно, еще немного понежиться в тряпках, зевая и потягиваясь. Однако его живот уже прилипал к позвоночнику, предвкушая встречу с летучими рыбками. Наскоро умывшись, Бызов направился к холодильнику фотографов, чтобы извлечь свою закладку и насладиться белковой пищей.
Но закладки там не оказалось.
Бызов обшарил морозильную камеру, потом холодильную – пусто. Ничего, кроме всего того, что обычно держали в холодильнике фотографы.
Такое случилось впервые, и, внутренне затвердев (не на шутку разозлившись и даже сжав кулаки!), Бызов попытался наметить план действий по выявлению причастных к этому хищению. Однако его разум был настолько возмущен, что оказался не способен к выработке оного плана.
Обедал Бызов, мрачно глядя в тарелку. Похищенные рыбки выбили его из привычной колеи. Он вспомнил их вкус сейчас особенно ярко и цепко держал его в памяти. А вот то, что в этот момент Бызов вяло пережевывал, имело вкус ваты.
Предложенная на второе котлета оказалась и вовсе невыносимой – пахла горелым луком и окисленными панировочными сухарями. Ее он только понюхал и кольнул вилкой в бок, совсем как журнальный крокодил колол в шестидесятые годы бракодела. Пришлось добиваться кратковременной сытости добавкой макаронных изделий.
Со словами, в которые, кажется, вложил всю душу: «Что, опять не понравилось?» – кок добавил ему макарон, а Бызов подумал о том, что лучше б кок вкладывал свою душу в котлеты.
Обед лежал в желудке Бызова мертвым грузом, желудочный сок не выделялся, и Бызов, как лагерный доходяга, опустив руки вдоль тела, потащился к трубе, где в жестянке еще должны были оставаться подсоленные сухарики. По дороге он думал о том, как вычислить похитителей «закладки». Для начала, конечно, следовало допросить фотографов. Но что-то Бызову подсказывало, что те либо пошлют его куда подальше, либо соврут что-нибудь правдоподобное. В желудки-то им не заглянешь, чтобы уличить!
Но в жестянке сухарей не оказалось. Выходит, и до его личных сухарей добрались мазурики…
Бызов, сколько себя помнил, всегда чтил подсоленные сухарики из круглого ржаного хлеба за четырнадцать копеек! А сам круглый ржаной за четырнадцать премного уважал. Его надо было брать в магазине еще тепленьким, сразу после того, как от магазина отъезжал фургон с надписью «Хлеб». И обязательно ту буханку, что была с «губой» – поджаристой трещиной на боку. Дома в качестве компенсации за «ходку» в магазин можно было рассчитывать на горбушку с «губой» от этого круглого. Собственноручно, но под присмотром бабушки, отрезав от круглого горбушку с губой, следовало подушечками пальцев вдавить хлебную мякоть внутрь, потом насыпать в углубление соли и смять горбушку так, чтобы получился пирожок с таком. И пока пирожок не остыл в ладони, Бызов самозабвенно хрустел им, даже не глотая откушенное, а впитывая его жадным нёбом. Подобная горбушка круглого за четырнадцать и была чем-то вроде соли земли, по крайней мере, для юного Бызова. Уж очень важной, чуть ли не самой необходимой, помимо футбола и хоккея, конечно, была она в его детстве. Возможно, вследствие этого и сам Бызов теперь как минимум на три четверти состоял из круглого ржаного за четырнадцать и соли. А иначе как объяснить то обстоятельство, что Бызов считал себя исключительно русским человеком, для которого хлеб да каша пища наша, хотя никогда и не отрицал того, что в нем может быть намешано много чего еще и совсем не русского?!
Так вот, сухари с солью. Их он помнил до сих пор. Они были спасением Бызова с раннего детства. Обычно утром (если речь не шла о походе в школу) бабушка (блокадница, как, впрочем, и мать Бызова и, значит, генетически сам Бызов) выставляла их с братом за дверь до позднего вечера, позволив перед убытием набить сухарями карманы. Те были топливом на весь световой день. Их можно было грызть, а можно было рассасывать, как конфету «Дюшес» или «Барбарис» стоимостью в одну копейку. Бызову с братом на день полагалось по одной такой, и, рассосав сладкую с кислинкой барбариску, Бызов потом по инерции рассасывал соленый с горчинкой сухарь, который, правда, не становился от этого сладкой конфетой.
То и дело забрасывая сухари в рот, как поленья в паровозную топку, можно было до самого заката, не заходя домой на обед, бегать, играя в футбол, воевать, бросаясь камнями, стреляя из рогатки, и даже схватываться в рукопашной до крови и синяков. И еще можно было незаметно для бабушки, время от времени поглядывавшей на Бызова из окна, покинуть двор и, прикупив у тетки в фартуке, кукующей возле бочки с надписью «Квас», два литра одноименного напитка по двенадцать копеек за литр (двухлитровый алюминиевый бидон не контролировался бабушкой), двинуть в компании дворовых хулиганов к совхозным полям, и там, если повезет, накопать ведро картофеля. И потом, на берегу реки устроив костер, испечь в золе картофель, к которому оказывались кстати и соленые сухари, и квас на всех поровну.
Откуда, однако, у Бызова, который как-то и трех копеек не смог наскрести, чтобы купить себе в овощном отделе соленый огурец (у него имелись лишь две копейки, найденные им возле парадной, а продавщица требовала с него три) двадцать четыре копейки?
Ну, по десять копеек на детский сеанс по воскресеньям им с братом бабушка нет-нет да выдавала, понимая, что кино важнейшее из искусств, и, значит, Бызов этот гривенник мог отложить, отказавшись от просмотра навязшего в зубах «Кощея бессмертного». Хотя как его отложишь, если на каждом углу без ограничения продают фруктовое мороженое за семь копеек и молочное за девять, которое почти ничем не отличается от сливочного за тринадцать?!
Но двадцать четыре копейки?!
Двадцать четыре копейки – это всего лишь две пол-литровые темно-зеленого или коричневого стекла пивные бутылки, обычно валяющиеся в кустах возле районного роддома или в канаве у больничного морга, собранные и сданные на ближайшем пункте приема стеклотары по двенадцать копеек за штуку под видом бутылок от лимонада, если, конечно, горлышки этих бутылок не имеют сколов в том месте, где запечатывается металлическая пробка. Оба напитка – и лимонад, и пиво – в те времена разливались в одинаковые пол-литровые цветные бутылки. А вот бесцветные, тоже пол-литровые, сдать Бызову было невозможно. Почему? Да потому что на ликероводочном заводе в подобные бесцветные разливали настойки и ликеры. И уж конечно, не стоило даже пытаться сдать вытянутые, объемом семьсот и более миллилитров, винные бутыли. Советские дети не пили ни ликеры, ни вино даже по праздникам, и потому не имели права сдавать подобные бутылки в пунктах приема. А вот зеленые да коричневые пол-литровые из-под лимонада «Буратино», «Колокольчик» или «Ситро» – будьте любезны. И не важно, что ваша бутылка от лимонада «Буратино» подозрительно пахнет прокисшим «Жигулевским» пивом. Во-первых, у приемщика стеклотары свой производственный план, а то и повышенные обязательства, поскольку он участвует в социалистическом соревновании и надеется на квартальную премию, и чем больше стеклотары у населения он примет, тем лучше государству, ну, и ему, грешному. А во-вторых, он ни перед кем не обязан отчитываться в том, от кого (уж не от пионера ли?) и при каких обстоятельствах получил каждую конкретную бутылку, и даже ту, на дне которой еще осталось на глоток несущей дрожжами кислятины…
Опустив руки и повесив нос от расстройства, Бызов шел на полубак в надежде найти там летучих рыб. Шел, сознавая, что их там нет, а если б и были, то, пролежавшие столько времени на раскаленной палубе, уже успели стать несъедобными…
И в голову ему лезло совсем уж отчаянное и потому едва ли осуществимое: надо обратиться к совести похитителей! Отправляя нарезанный хлеб в жестянку, а приготовленных рыбок в морозилку, он будет сопровождать эти закладки короткими записками, из которых всякому станет ясно, что сухари и рыба принадлежат Бызову, что все это он употребляет вместо обеденной котлеты. То есть всякий вместо бызовских рыб и сухарей теперь может рассчитывать на бызовскую котлету, если, конечно, у этого человека нет совести.
И едва он об этом подумал, ему вспомнился июльский день, небо, прозрачное, тонко звенящее чистотой после грозы, на котором солнце сияло, как надраенный самовар в комнате у соседа Толика, иногда приглашавшего Бызова с братом к себе поиграть в дурака и попить чай с сушками.