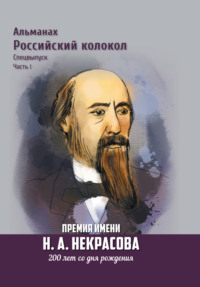Полная версия
Крещатик № 94 (2021)
И там, перед манною кашей,
Еще не остывшей вполне,
Расскажет им нянечка Даша
О том, как была на войне.
Звучали ему два аккорда
Из недр ленинградских трущоб.
А нынче он бродит по городу,
Чтоб чувствовать – жив еще.
* * *Позабуду едва ли…
Переулки молчат.
Вы куда подевали
Моих серых крольчат?
Это небо с овчину,
Сестрорецкий снежок.
Где в ту зиму загинул
Славный пёсик Дружок?
Это белые мухи
Вьются у фонаря.
Время встало на шухер,
И, конечно, не зря.
* * *Спирты, дистилляты и виски,
Вы главных напитков главней!
А нам на закуску сосиски
Отрадою сумрачных дней.
Он ставит кастрюльку на плитку
И теплый фуфырик – на стол.
А время ползет, как улитка,
Насаживая на кол
Похмельный… Сто лет привыкали,
Да вот не привыкнуть никак.
А где-то чхавери с хинкали,
Кюфта и армянский коньяк.
* * *Утром дымный ветер упруг,
Подкинуло в койке рано.
Ничего-то не выйдет, друг,
Без гранёного стакана.
Переулочек-переул,
Здесь мы грани содвинем тесно.
Всё равно наш век затонул
В городской трясине местной.
* * *Где серое до сини
У невских берегов,
Снесли завод «Россия» —
Стоял, и был таков.
У них такая карма…
Подумаешь, века! —
И снесены казармы
Лейб-гвардии полка.
Снесут еще немало,
Ликуя и губя.
Жаль, время не настало,
Когда снесут себя.
* * *Сериал слезит пенсионера —
женщина садится на пять лет…
Зло уже совсем офонарело,
хоть кому подбросит пистолет.
Но, однако, шапка не по Сеньке
олигарху – вот кто убивал!
Наша правда!
Обождем маленько,
завтра будет новый сериал.
* * *В стране, где не проскочит мышь,
где виноват любой,
кого, братишка, удивишь
трагической судьбой?
Страна рабов, страна господ,
взбесившихся монад,
где если затолкали под,
уже не суйся над.
* * *Смотришь старые фотографии —
Будто читаешь эпитафии.
Снег на дне двора-колодца белый-белый.
Шляется мальчик с утра без дела.
Глядит пристально из своего далека.
Гуляй, милый, жизнь легка…
* * *Человек уходит в лес.
След его почти исчез.
Поздний мартовский снежок
Будто свет в лесу зажег.
У него сомнений нет —
Он идет на этот свет.
* * *Морские тянутся коньки
По небу. В вазе – три пиона.
Вдали на кранах огоньки —
Два красных и один зеленый.
Вот, собственно, и все дела.
Остыл твой чай, доеден пончик.
С горы ползет густая мгла,
И день, как нудный фильм, закончен.
СЕМЬ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ1
…Но лишь короткие стихи,
Беспечные четверостишья,
В которых не наплёл ты лишнего, —
Простят, как мелкие грехи.
2
Когда открылись нам скрижали,
Вдруг вопросил один чудак:
«За что людей уничтожали?!»
За просто так, за просто так…
3
Чего ни вытворяет Бахус!
Друзья, налейте ж поскорей
Вы гражданину Авербаху-с —
Он алкоголик, хоть еврей.
4
Пиитов современных лица,
Читатель слёзы льет ручьем!
А мне никак не навостриться —
Высоким штилем ни о чем…
5
Пришла пахучая эпоха,
Как видно, бог на нас сердит, —
Бомжи в подъездах пахнут плохо,
От власти попросту смердит.
6
Мы одержали победу,
Но она растворилась в воздухе.
Не огорчайтесь, утешают,
Зато вы дышите воздухом победы!
7
Небосвод цвета медной окалины
Присобачен к земле острогой.
Вместо этой страны нераскаянной,
И не жду, – не возникнет другой…
ДВУСТИШИЯ НА ЗЛОБУ ДНЯКонтрабандисты
Янаки, Ставраки и Папа Сатырос
Везут контрабандою коронавирус.
Эрмитаж
Бродят в поисках античности
Пандемические личности.
Беспилотник
Раз один знакомый плотник
Смастерил нам беспилотник.
Обнуление
Хрен поймет, что делать с ним,
Если он незаменим.
Проговаривание травмы
У меня разрыв мениска! —
Закричала феминистка.
Прошлое и будущее
Герои отвратительного прошлого
Все устремились в будущее пошлое.
Сергей ШАТАЛОВ
/ Донецк /

киносценарий по мотивам рассказа Хулио Кортасара «В конце этапа»
Он сидит в машине рядом с ней (она следит за дорогой и курит), то ли всматриваясь в бегущую небесную строку, то ли вспоминая давно написанное письмо, монотонно говорит:
«Вот передо мною молодая, красивая и многими желанная женщина. Она готова пожертвовать не только карьерой, но и молодостью, пожертвовать всем, чего от неё потребуют, лишь бы ей позволили любить, да так, чтобы от избытка этой любви она могла удушить предмет своего обожания. (Пауза). Я не осмеливался признаться ей, что больше не люблю её. Не мог! Потому что в решающий момент выяснения отношений, вдруг, физически понимал, что мне необходим этот человек… Она просила всего-навсего не делить её с другой. Однако быть избранным для столь исключительного переживания значило для меня многое».
Женщина и дорога в едином порыве. Это не позволяло сидящей за рулём заметить, что вместо говорящего мужчины на автомобильном кресле дымилась сигарета. Дама, пытаясь погасить начинающийся пожар, затормозила машину.
Эта территория не была обозначена ни на одной карте. На вопрос: «Как называется город?» прохожие отвечали явной растерянностью. За столиком первого встречного кафе пообещали уточнить их местонахождение, но ближе к вечеру. Прохладные напитки и табачный дым сняли с женщины напряжение и усталость.
– Городок, сами понимаете, небольшой, и достопримечательностей…
– Их нет… – перебил первого официанта второй.
– Я хотел сказать…
– Он хотел сказать, зря вы сюда приехали…
Женщина поперхнулась сигаретой, догоревшей до самых губ.
– И что мне теперь делать?
– Наслаждаться звенящей тишиной и трогать руками время. Оно в этих местах живое. (Пауза). Ну, почти живое.… – уточнил второй официант, оттолкнувшись от её удивлённого выражения глаз.
Прикрываясь улыбкой, женщина с привычным для неё самообладанием встала из-за стола и пошла по улице в надежде открыть для себя некую здешнюю особенность. Вот магазинчик невзрачного антиквариата, а вот старинный фасад музея изящных искусств. Персональная выставка, неизвестный художник с труднопроизносимым именем. Женщина купила билет и вошла в первый зал непритязательного здания. Ей вручили проспект, содержащий общие сведения о творчестве художника, связанном, в основном, с этим городом. Она положила его на рядом стоящий столик и принялась разглядывать картины. В первое мгновение женщина решила, что это фотографии, хотя удивлял их размер – никогда раньше ей не приходилось видеть цветных фотографий, увеличенных во столько раз. Она не сразу поняла, что это всё-таки картины с подробно выписанными мелочами, будто они срисованы с самой жизни. И, хотя света в залах было достаточно, женщина долго не могла разобрать, что это – «живые» копии или плод реалистического наваждения, уводящего художника за грань здравого смысла.
В первом зале висело четыре или пять картин, изображавших пустой стол, освещённый резким солнечным светом. Рядом стоял стул, стол же лишь дополнял вытянутую от бокового света тень.
Во втором зале женщина увидела нечто новое: на одной из картин был изображён мужской силуэт, и эта фигура объединяла интерьер комнат с дверью, распахнутой в нечётко выписанный сад; человек был изображён со спины, он удалялся от стола на переднем плане. Без сомнения, на всех полотнах был запечатлён один и тот же дом, теперь к нему прибавилась длинная зелёная веранда с той, другой картины, где мужчина, повернувшись спиной, смотрел на дверной проём. Странно, но пустые столы были изображены куда более отчётливей, чем этот человек; казалось, он забрёл сюда случайно, без особой цели прогуливаясь по комнатам заброшенного строения. Кругом стояла тишина, не только потому, что женщина была единственным посетителем маленького музея – от этих холстов веяло одиночеством, и тёмный мужской силуэт придавал ему непоправимую безысходность.
Войдя во второй зал, женщина удивилась тому, что, помимо новой серии картин с пустыми столами и человеком, по-прежнему стоящим спиной к зрителю, были и полотна, изображавшие то одинокий телефон, то несколько неясных фигур. Конечно, она смотрела и на них, но словно не видела – это повторение пустых столов оказалось столь навязчивым, что все остальные изображения превращались, по сути, в обрамление.
Вспомнив, что не всё разглядела на просмотренных полотнах, женщина вернулась в первый зал. И в самом деле, на столе, который вначале показался ей пустым, стоял кувшин с кисточкой. Пустой же стол был изображён на холсте напротив, и она остановилась, чтобы получше разглядеть фон – открытую дверь, за которой угадывалась следующая комната, возможно, часть камина или ещё одна дверь. Сам же художник незаметно удалился, кроме, разве, тех полотен, где он был изображён в виде чёрного силуэта (однажды – в длинном плаще) всегда спиной к посетителю. Женщина снова прошла второй зал и приблизилась к закрытой двери, ведущей дальше. Смотритель музея (человек, очень похожий на её спутника по машине) сообщил:
– Музей в полдень закрывается, однако в половине четвёртого снова будет открыт.
– А много ли ещё осталось? – поинтересовалась женщина.
– Нет, один зал. Да и там – всего одна картина… Хотите её увидеть? Я могу подождать.
– Не утруждайте себя, я подойду ровно в половине четвёртого!
– Новый билет не покупайте, – сказал смотритель, – я вас запомнил.
Уже на улице вдалеке она увидела прежнее кафе и подумала, что пора бы и поесть. Но, глядя на удаляющуюся фигуру смотрителя музея, вдруг произнесла:
– Быстро же ты меня забыл! Разве так бывает?
– Конечно, бывает! – ответил смотритель.
– Испугался?
– Вряд ли…
– Значит, другая женщина?
– Ты сегодня обворожительна!
– Это не про меня…
– Про тебя! Про тебя!..
Ничто не мешало её бесцельной прогулке. Плутая по безлюдным, безымянным улочкам, она вдруг случайно увидела приоткрытую калитку, за которой угадывались внутренний дворик, колодцы и коты, спящие на песке. В запущенном саду почти не было деревьев, и ничто не мешало видеть распахнутую дверь старого дома. Там, в полумраке, женщина узнала галерею, точно такую же, как на одной из картин в музее. Ей почудилось, будто она вошла в картину с другой стороны, со стороны сада. Если и было в этом что-то странное, то лишь то, что это событие нисколько не поразило её. Она уверенно проникла в сад и подошла к двери. Вошла в первую пустую комнату, где через окно бил резкий жёлтый свет и, растекаясь по боковой стене, вырисовывал пустой стол и единственный стул. Слева уже открывалась другая дверь, и в комнате с высоким камином неизменный стол отбрасывал невероятно длинную тень, так что казалось, будто столов два. Новой деталью была только дверь в глубине, запертая, а не приоткрытая, как другие, и это слегка замедляло продвижение. Ей подумалось, что дверь закрыта, потому что она не вошла в последний зал музея, и если она заглянет за эту дверь, то словно вернётся туда и завершит осмотр.
На первый взгляд, комната была недоступна. Хотя дверь легко распахнулась от транзитно летящей пчелы, и женщина обнаружила за ней то же, что и везде: струю жёлтого света, которая разбивалась о стены, стол, оказавшийся ещё более пустым, чем другие, с вытянутой тенью, будто кто-то резко сорвал с него чёрную скатерть и швырнул на пол. А почему бы не взглянуть на этот стол иначе и не увидеть в нём застывшего на четырёх лапах зверя, с которого только что содрали шкуру – вот она лежит теперь рядом у её ног. Женщина чуть разочарованно подошла к столу, села и закурила, забавляясь дымом, который вился в полоске света, рисуя сам себя.
Она вышла на улицу. В переулке какой-то парень спросил у неё, который час. Она подумала: что ей нужно поторопиться, чтобы успеть поесть. Она уже знала, что вернётся в музей.
– А вот и вы! – официант проводил её к заказанному столику, потом торжественно раскрыл меню и стал читать: – В один прекрасный день, я бы добавил, в необыкновенно особенный… – официант улыбнулся, – я задушу тебя, если, конечно, ты не успеешь меня опередить!
– Nevermore[3]… – произнесла женщина, всем своим видом демонстрируя, что она уже не здесь.
По пути в музей её встретила группа туристов с фотоаппаратами. Должно быть, она заслужила фотосессию, как новоиспечённая достопримечательность. На облако фотовспышек слетелись пчёлы. Пчёлы, свет и она…
Уже в музее женщина неторопливо прошла первые два зала (во втором была молодая пара, почему-то молодёжь общалась между собой шёпотом). Она задержалась у двух или трёх картин, где впервые незримый свет вошёл в неё, заставив поверить в то, во что не захотела поверить в том одиноком доме. Она дождалась, когда посетители уйдут, и тут же неожиданно для себя оказалась у двери, ведущей в последний зал. Картина висела на левой стене, надо было встать в центр этого помещения, чтобы как следует разглядеть стол и стул, на котором сидела женщина. Так же, как и стоящий спиной человек на тех полотнах, где его партнерша по картине расположилась в абсолютно чёрном, но сейчас её лицо было повернуто, каштановые волосы падали на плечо, скрытое в темноте. Она мало выделялась на фоне остальных предметов, она вписывалась в эту картину, как и мужчина, обозначая ещё одну фигуру в пределах единой эстетической воли. И всё же было нечто, возможно, объясняющее, почему в последнем зале нет других картин. Поза женщины: левая рука свисает вдоль тела, туловище слегка наклонено, и вся тяжесть как бы переносится на невидимый локоть, опирающийся о стул – создавалось ощущение полного одиночества, больше, чем просто задумчивость или забытьё. Эта женщина была мертва – вот почему её рука свисает и спадают волосы, а загадочная неподвижность гораздо безысходнее неподвижности предметов и людей на других картинах. Лишь дым сигареты казался живее всех живых.
Не помня себя, она оказалась на улице. Села в машину, выехала на раскалённую автостраду и тут же набрала запредельную скорость. Лишь когда сигарета обожгла ей губы, приостановила свой «бег», обретая способность видеть реальную дорогу. Рядом рука смотрителя музея включила магнитофон с очень знакомой мелодией. Но женщина всё ещё была в том месте, из которого только что выехала. Её тянуло обратно. Она убеждала себя в том, что всё это чушь собачья, что не было никакого дома, или что дом, пожалуй, был, а вот в музее она посетила выставку абстрактных рисунков, возможно, выставку исторических полотен, которые никаких особых чувств вызвать не могут.
И всё-таки ей необходимо вернуться. Она развернула машину и уже через мгновение мчалась по автостраде в обратном направлении, сбавив скорость лишь при появлении окрестностей города. Она проехала площадь, вспомнив, что слева был тупичок, в котором можно оставить машину, прошла по пустому переулку; заброшенный дворик был всё там же, огромная дверь оказалась открытой.
Останавливаться в первых двух комнатах – лишнее. Столы были на своих местах, дверь же в третье помещение, наверное, закрыла она сама, когда выходила. Она уже знала, что её нужно только толкнуть, беспрепятственно войти и увидеть незыблемый стол со стулом. Снова сесть, чтобы выкурить сигарету (горстка пепла от первой сигареты всё ещё томилась на краю стола), опереться локтем, чтобы укрыться от льющегося из окна светового потока. Она отыскала в сумочке зажигалку, проследила взглядом за первым колечком дыма, извивающегося в лучах заходящего солнца. Сигарет хватит до утра. Теперь можно опереться на столешницу и позволить взгляду раствориться во мраке у дальней стены. Конечно же, она в любой момент могла уйти. Но могла и остаться. Наверное, это так красиво: луч, который медленно плывёт по стене, мало-помалу удлиняя тень и её самой, и стола, и стула.
Или же навсегда замереть – луч, застывший вместе со всем остальным, с нею и с неподвижным дымом, в котором, не останавливаясь, кружит пчела.
Вася БОРОДИН
/ Москва /

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ
2017–2021 ГОДОВ
* * *сон кукует, тень куёт
всё становится краями
и ликует как своё
солнце отдавая яме
чем затылками горбы
колотить свои, пойдём-ка
от судьбы и от трубы
как танцуя, как подёнки
прощелыги прощены
не бывают, но пируют
дуя чаю на луны
зыбь сырую, часть вторую
* * *снег каких-то вещей
синей тряпки наждак
шкафа трещина щель
с шумом грузовика
в снега скрип входит шаг
а над ним человек
а над ним беломор
отпускает себя
но не как невермор —
как форевер, как пар
дальних широких труб —
кругл и прав, слаб и груб
* * *Верлен просверлен и по нём
стреляют в тире
небесном – медленным огнём
пули висят
ни даже первая ещё
не долетела
а им уже потерян счёт
рýжья несут
* * *мы смотрели на собак
мы смотрели на кабак
мы смотрели на табак
мало ли прекрасных лодок
получается из рук
в них несёшь друг дружке сердце
оно падает из рук —
вверх, всплакнёт планетой Марсом
самолётиком мигнёт
хмыкнет Фрейдом, крякнет Марксом:
мысли – крылья, чувства – гнёт
* * *в крýжке железной подпрыгнув, вода
прыгает снова, и на проводах
копится каплями; капли ползут
как поезда – те, что письма везут
от разлюбивших – не любящим: там
дождь начинается, бьёт по цветам
ТРИ ПЕСНИ1
идут солдаты
трам-прам-брам
идут монахи
храм храм храм
идут сапожки
хруп-пип-хром
всем понемножку
гром гром гром
пуля солдата
не бери
похоть монаха
не бори́
гóре сапожкам
плюх-хлюп-грязь
всё понемножку
зря зря зря
2
колóтится лодочка
о серый причал
ангельское воинство
в березняк сквозит
а другое воинство —
ельником сырым
…ночь качает лодочку
а там день кричит
чтó я буду буду ли
баю-баю где
и когда разбудят нас
для новой земли?
в одной чаше пепел сор
кость и яма лжи
а в другой горят водой
камни-голыши
и чáши качаются
баю-баю-бай
колóтится лодочка
спит день
ночь не спит
3
плуги
флаги их – грачи
их ван Гоги – силачи
едут в нашем балагане через дождика лучи
о'бручи
«ад и обратно»
львы летучего ума
едут как слепые пятна через спящие дома
через
крышу небосвода
и свобода впереди
слёзы распирают грудь, и цепи рвутся на груди
* * *с камнями в карманах идёт жонглёр
за синими днями как война
с тяжёлой слезой посреди груди
когда она выйдет – он умрёт
о Франция мысли и листвы —
всё в тебе ползёт-поёт!
летучие тучи, шерсть огня
небесного, как в следах колёс
когда время вышло и пришло —
одно и есть что свет слёз
планета Земля – как в руке земля
и морось вслед дрожи звёзд
* * *что ты видишь как лесное
как лесное лицо это – стог снега
это – сноп зноя
это – цепь, на которой сидит лист-царь
отвернуться угнаться
обознаться уткнуться —
в всё чужое родное
только и биться
превращаясь в просветы – не дыша, зная
* * *эх ты!
зерно-человек!
сколько у тебя, быка, было
мешков одной мысли!
а пошёл сквозь песок времени
как вот я
не спеть и песни
похожей на любую
на ничью песню —
которую поёшь
как это объяснить? —
как бы… дуя в пустое
зная
впустую
Александр МОЦАР
/ Киев /

Моему брату Сергею
Меланхоликом становишься, когда размышляешь о жизни, а циником – когда видишь, что делает из нее большинство людей.
Эрих Мария Ремарк «Три товарища»
Почти все ситуации и разговоры в этой повести – это невыдуманные реалии лета 16-го года. Я, конечно, понимаю, что зафиксированные мной здесь положения не разворачивают полной картины происходящих тогда событий, в Киеве в частности и в Украине в целом, но это то, что видел и слышал именно я. Медиа-реальность большинства. Вера националистов и сепаратистов. Противостояние. Всё это останется на полях этого рассказа. Здесь несколько бесед небольшого круга людей. О них ниже. Итак:
Он смотрит на мокрую скользкую брусчатку, которая переливается, мигает, веселится отражающимся цветным неоном. Вечер, суета перед праздником. Ветер отталкивается от стен, меняет направления, напрягается мелкой дрожью в моросящей влаге, которая не может решиться, быть ей снегом или дождём. Вокруг шаги, тени, голоса – всё то, что давно не интересует его. Люди в его сознании перестали удивлять и стали говорящим потоком, изображением на общем экране, с которым нельзя поговорить. Кто-то за спиной громко произносит его имя, он подымает голову и невнимательно, рассеянно оглядывается по сторонам – лица, спины, взгляды. Он всматривается в людскую массу и никого не видит. Цветные, серые, разные они идут мимо него плотным, целеустремлённым речитативом, обсуждая друг друга.
Из подземки метро «Театральная» выходит пара с букетом цветов и направляется ко входу в театр. Там суета перед тремя звонками. Люди встречаются, дожидаются, топчутся на месте, говорят по телефону, с телефоном, с людьми, с голосами людей. Перед афишами мужчина нервно выговаривается перед молодой женщиной, та, улыбаясь, смотрит мимо него. В её улыбке явная угроза. Мимика человеческих отношений.
Телефонный звонок отвлекает его от невольных наблюдений. Он недовольно морщится и отвечает, после короткого разговора идёт вниз по улице Хмельницкого к Крещатику. Навстречу ему идут две симпатичные девушки в костюмах 19 века. Яркие юбки, меховые шубки, шляпки, перчатки, улыбки. У них лотки, на которых конфеты и цветная полиграфия. Он берёт конфету и флаер, благодарит и смотрит на уходящих красавиц. Только сейчас его накрывает ощущение скорого праздника. На здании ЦУМа светящейся гирляндой выложены цифры наступающего года – 2014. Он выходит на Крещатик.
Палатки, костры в железных бочках, кордоны, нервный, весёлый накал неподчинения. По телефону его ориентируют друзья, и скоро он полностью окунается в атмосферу протеста, беспорядка, где люди говорят матом и лозунгами, где есть враги и герои. Он невнимательно слушает последние новости в зоне оппозиции и с удовольствием принимает флягу с коньяком. Глоток, еще глоток. Рядом потянуло сладковатым дымом марихуаны. Люди шумно договариваются о совместной встрече Нового года.
Из поддонов делают сцену, на которой ему сегодня предстоит выступать. Вечер гражданской лирики. Несколько фотографов, знакомые, незнакомые лица, безликий корреспондент немецкого радио. Короткое бессмысленное интервью.
Все возбуждены каким-то новым делом. Все уверены в своей правоте и нужности, и эта уверенность заражает своей искренней простотой. Здесь все знают, что нужно делать и наконец-то все нужны друг другу. Он чувствует это общее настроение и нарастающую тенденцию к объединению и невольно инстинктивно отстраняется от всех. В толпе он замечает своего приятеля-журналиста, политолога. Спрашивает о его впечатлениях, звучит слово революция. «Это не революция, – отвечает приятель, – это карнавал». Взрыв петарды, его шумно окликают. Он видит перед собой своего соседа, молодого парня, футбольного фаната. Этот настроен решительно. Короткие, резкие фразы, вера. Здесь он уже получил приказ. «Олег Глота, к сотнику», – парень рывком, не простившись, срывается с места и убегает к группе людей, которые неумело, неловко, ещё стесняясь друг друга, пытаются организовать строй. 28 декабря 2013. Суббота.