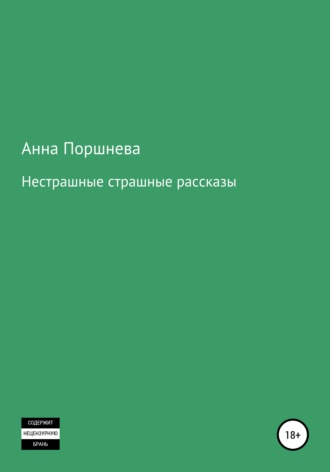 полная версия
полная версияНе страшные страшные рассказы
Первая размолвка случилась в начале сентября. Как раз накануне в библиотеке все в очередной раз обсуждали её замужество, и говорили, как она похорошела и помолодела.
– Ну, лет на восемь, точно, – сказала заведующая читальным залом.
– Это Вы, Клавдия Степановна, потому так говорите, что самой под семьдесят, – заявила Светка,
– Мне только шестьдесят четыре!
– Ай, да всё равно. Вот ты, Аня, счастливая, и ничего не видишь. А Фёдор-то твой странный. Очень странный. Глаза у него всё время разные, привычки какие-то старомодные, а уж как он про себя шептать начинает, и вовсе странно становится.
– Да ты просто завидуешь! Сама уже два раза в разводе, вот и злишься – заявила не в шутку обиженная Клавдия Степановна.
– Ай, я и в третий разведусь, и в четвёртый. Далеко ещё до шестидесяти! – показала язык Светка и, наклонившись к Анне, прошептала – Ты поглядывай там. Мой-то первый, что наркоманом оказался, так вот тоже также лопотал всё себе под нос, да зрачками огромными пугал.
Аня спала ту ночь беспокойно, и проснулась от света, упавшего ей на лицо. Приподнялась, увидела, что свет идёт от стенного шкафа, сонно отыскала очки, надела и увидела: Фёдор методично вынимал свежевыглаженные рубашки, внимательно рассматривал и скидывал в кучу у ног. Она взглянула на мобильник: без пятнадцати пять.
– Ты чего? – спросила она сухим голосом.
– А рубашки-то ты, милочка гладить совсем не умеешь. Вот на рукаве морщинка, а вот на манжете залом, а здесь передние планки у плечей не проглажены… И порошок какой-то вонючий используешь.
– Я с кондиционером.
– В моё время всё ручками полоскали в холодной воде, просто в ледяной. А нынче все такие барышни пошли, маникюра бояться испортить.
– Да я…
– Придётся мне всё перегладить. – И, действительно достал доску, включил утюг, пошёл к кухонным шкафам и стал что-то искать.
Она натянула трусики, накинула сорочку и подошла к нему.
– Милый, не надо, я сама.
– А крахмал где? – ворчливо спросил он.
– Нет, кажется.
– Как нет? Как в хозяйстве может не быть крахмала? Разве он сейчас не продаётся?
– Продаётся. Зачем тебе, я куплю после работы.
– Гладить. Мужские сорочки, милочка, без крахмала гладить – только портить.
– О Господи! Да что с тобой?
– Ничего. Придётся обойтись так – пробормотал он себе под нос. Налил холодной воды в кружку – Разбрызгивателя для белья тоже нет, естественно?
– Там в утюге есть.
– В утюге всякой дряни полно. Вода будет грязная. Как же вас тут всех разбаловали!
И стал гладить, прыская водой изо рта. Аня хотела было сказать, что во рту у него не чище будет, чем внутри у утюга, но поняла, что надо молчать. Он быстро и ловко гладил, и одновременно читал ей лекцию по домоводству. Она узнала, что неправильно шинкует капусту для щей и борща, тратит слишком много масла для жарки картошки, не умеет выбирать хорошее мясо и не аккуратно чистит рыбу. К шести все рубашки были выглажены, приборы убраны, свет погашен, и она, совершенно измученная, смогла кое-как заснуть, отодвинувшись на край кровати. Утром проснулись по звонку будильника. Фёдор прижал к себе, поцеловал и сказал, как ни в чём не бывало:
– С добрым утром, Нюсечка! – вгляделся и озабоченно – Что-то ты бледненькая. Сон дурной приснился?
И она совсем было подумала, что только сон. Но открыла шкаф, достать юбку, и увидела непривычно ровные ряды рубашек, чересчур гладкие пластроны и спинки, безупречные воротники… она бы так никогда не смогла. Фёдор подошёл сзади, обнял и тихо сказал:
– Ничего, Анюта, ничего, всё в порядке. Всё объяснится. – Но сам так ничего и не объяснил.
Потом как-то вечером, в субботу, она вернулась с работы домой и застала его в очках, разглядывающим старые фотографии. Это был не альбом в красном выцветшем бархате с выдавленным букетом роз на обложке, рыхлый, старый, который он показал ей однажды. Большие рыхлые пачки фотографий, жёлтых от времени, с обломанными уголками и чернильными надписями на обороте, просто лежали в старой папке для бумаг с завязочками. Но её удивили не фотографии, честно говоря, она едва взглянула на них, а старые роговые очки с помутневшими стёклами на носу у Феди, который всегда подтрунивал, что она глаза собой в футляре носит.
– Иди-ка сюда – поманил её он пальцем, – иди-ка, иди. Видишь? – на старом – дагерротипе, что ли? – группа людей с неестественно застывшими лицами, сжатыми губами и выпученными глазами: двое взрослых в парадных одеждах, мужчина в пиджаке, женщина в платье с кружевным воротничком и манжетами, и восемь детей, один, совсем маленький, годовалый что ли на руках. – Дед мой Илья Алексеевич и жена его Аглая. У них семнадцать душ детей было. И все выжили. – Какой дед? Какие дети? Феденька, что ты говоришь, очнись! – крикнуть бы, да дыхание обивается, голос пропал
– Вот. Семнадцать душ. А у нас ни одного.
– Ты же знаешь, я не могу. – Нашлись силы откуда-то, – Ты же говорил, тебе не важно.
– Нам нужен ребёнок. – сухо сказал чужой человек Фединым голосом с нефедиными интонациями. – и если ты не способна, найдём другую, поняла? – и больно сжал её плечо.
С того вечера Аня стала его бояться. Каждый день к невесёлым наблюдениям добавлялись новые тревожные признаки, сны стали беспокойными, голова пухла от предположений и догадок, а потом и вовсе кошмар начался.
Три недели назад Фёдор неожиданно пришёл домой с четырьмя друзьями и Аня с удивлением услышала, что у него сегодня день рождения (а день рождения они справляли в июне, ещё до отпуска, вдвоём в этой квартире за бутылкой сухого вина, запечённой форелью и вазой сладкой черешни, которую он любил так же сильно, как и она). В доме была, по счастью, незамороженная курица, сколько-то помидоров и перцев, хлеб и яблоки. В общем, её удалось всё обернуть в шутку, сказав, что сейчас будет весёлый аттракцион, кто из мужчин продержится дольше, наблюдая за фаршировкой птицы. Антон, друг Фёдора, предложил сгонять пока в магазин за напитками и чем-нибудь сладким для дамы, и всё как-то обошлось, и уже сидели они весёлые, болтали глупости, травили байки из жизни монтажников про ненадёжные крепления, разбитые случайно окна и неожиданные встречи по возвращении с балкона с бойцами вневедомственной охраны, вызванными бдительными бабками, как вдруг у неё закружилась голова, скрутило живот, она кинулась в туалет и вырвала всё, съеденное за ужином. Переволновалась, наверное, вот желудок и не выдержал, – подумала она тогда. Странные головокружения и тяжесть в ногах и – когда у неё в последний раз были месячные? полтора месяца назад уже, оказывается – заставили её купить тест. Увы, результат оказался отрицательным.
А тошнота и особенно отёки ног, если съест даже малость чего солёного или острого, если выпьет на ночь воды, если наденет узкие сапоги, продолжали мучить. И появилась назойливая мысль, что Фёдор её травит. Зачем? А кто его знает, такого чужого и страшного. Анна больше ему не доверяла. Любила, да, всё ещё любила, всё ещё стонала по ночам в его руках, но не доверяла. И вот решила сегодня, когда он ушёл на срочный заказ, проверить его вещи. Никогда не лазала по чужим столам, никогда. Даже к брату в пору самого опасного подросткового возраста не совалась. А тут стала искать методично, ящик за ящиком. Что искала? Порошок какой-нибудь, шприцы, ампулы, траву, сама не знала. И ничего не нашла.
Продолжила в огромном на пять метров длиной и на метр шириной стенном шкафу-гардеробе. В одном углу там были сложены старые – дедовские ещё, по объяснения Фёдора – фибровые чемоданы. В них только старые тряпки какие-то, платье, то ли свадебное, то ли выпускное, мундир давно прошедших времён, ползунки и чепчики, какие-то камни, альбом с сушёными бабочками – фу, мерзость какая. А надо ещё проверить каждый карман, застёгивающийся на тугие пуговицы, и карманы у чемоданов проверить надо; а старая обивка, протёртая от времени? – там, в ватине, тоже может быть что-то спрятано!
– Анна, ты что делаешь? – Фёдор стоял на пороге: она не услышала, как он повернул ключи в замке, так занята была. – Обыск устроила… – сказал он упавшим голосом, закрыл дверь, подошёл к ней и сел на пол рядом среди раскрытых чемоданов и разбросанных вещей. Взял за руку, отвёл волосы от лица, она вскрикнула, отшатнулась: почудилось ей, что сейчас своей огромной жёсткой пятернёй сдавит шею и свернёт, как курице.
– Ты что, Нюсечка? Что с тобой?
– Фёдор, скажи, ты хочешь меня убить?
– Любимая!
А она опять отшатнулась. Не может выдержать, когда он её касается, совсем не может, всё, хватит. Он вздохнул, встал, отошёл к дивану и сел в тени. А она осталась, освещённая лампами шкафа сидеть среди следов преступления. Только вот чьего?
– И что ты обо мне думаешь? – он вздохнул ещё раз. – что я мошенник, брачный аферист, вор, маньяк, что?
– Ты наркоман, да? – спросила и сама поняла, что глупость спрашивает.
– Я… я – единственный в своём роде, Анюта.
– Да я знаю, единственный и неповторимый, – резко сказала она.
– Нет, просто единственный… Я сам мало могу что сказать, только то, что от деда узнал, и что сам помню. Мой род очень древний, и хотя мы жили среди вотяков, сами мы много древнее и пришли из других земель. Можешь мне не верить. Скажу так, как есть. Ни один из рода не умирал насовсем, его сущность как бы распылялась между живыми. И пока нас было много, всё шло спокойно: каждый нёс в себе свою долю предков и жил в гармонии с прошлым, зная, что и его ждёт это будущее странное существование в чужом теле в содружестве с другими. Но потом… В противостоянии с татарами многие погибли, остатки бежали в Сибирь и стали жить обособленно. Очень обособленно. Лет двести только межродовые браки. Потом поняли, конечно, что происходит, да поздно было. Число сородичей стало уменьшаться, появились наследственные болезни, и всё труднее стало выдерживать гнёт прошлых жизней. А потом война, революция, ещё война. Так и осталась только одна семья. А в ней только один ребёнок – дед мой.
Но дед был крепок и уверен в себе, он жёсткой рукой справлялся с предками, взял в жёны приезжую девушку из интеллигентной семьи, родил пятерых детей. К сожалению, две мои тёти не унаследовали родовой особенности. А может и к счастью: обе вышли замуж, живут, как нормальные люди, с нормальными радостями и с нормальными проблемами. Один из дядьёв умер в семнадцать лет от рака крови. Второй погиб в Корее (как тогда говорили: при исполнении особо важного правительственного задания). Но у отца было трое сыновей, и все чувствовали в себе силу рода, так что надежда оставалась. А потом всё полетело кувырком. Отец погиб и братья в одночасье. Дед только успел немного рассказать мне, что за голоса шепчутся со мной перед сном, а тут на меня навалилось.
Понимаешь, Анюта, мне только семь было, а я почувствовал, как отец умирает, братья, как все эти тысячи, что они в себе несли, и сами они врываются в меня, переполняют, замещают, вытесняют… И дед то же самое почувствовал, я уверен. Вот и не выдержал. Да и то сказать, ему уж далеко за восемьдесят было. А дальше ты всё знаешь. Вот и живу я теперь, и все Воршуды, и все, кто были до них, и до них тоже, до тридесять десятого колена живут во мне. Те, что подревнее, мирно живут своей жизнью, меня не трогают. Но некоторые… некоторые рвутся к жизни и иногда берут надо мной верх. И их абсолютно не интересуют мои желания, мои возможности и мои страхи.
Анна смотрела на него, слушала этот фантастический бред и думала только одно: да он сумасшедший, бежать, бежать, бежать от него. Встала, взяла большую спортивную сумку и стала методично снимать с плечиков вещи и укладываться. Фёдор сидел, смотрел на неё и молчал. Она переоделась, свернула халатик и тапочки, положила в боковой карман, застегнула молнию. Подумала с минуту, не забыла ли чего. Решила, что если забыла, то всё равно мелочь какую-нибудь. Пошла в прихожую, надела сапоги, стала заворачивать шею шарфом.
– Анюта, я тебя люблю. Не уходи, пожалуйста – чей-то голос из комнаты. Чей? Кого из Воршудов, заполнивших его безумный мозг?\
– Ключи я оставляю. Прощай, Фёдор.
9
– Девушка! Девушка, вы что стоите? Конечная, девушка, приехали! – кондукторша трясёт за плечо, участливо смотрит в глаза. – Вы в больницу что ли, девушка? На операцию? Вам, может, скорую вызвать?
– Нет, спасибо, я в порядке.
Пропустила свою остановку, возвращаться придётся. Ну ничего, ещё подумаю по дороге. А по дороге заклубились невесёлые мысли о возвращении старой жизни со скандалами, упрёками, тесной комнаткой, без него, без него, без него… И тоска сжала сердце и не отпускала уже, только усиливалась, пока поднималась в лифте, пока открывала дверь, пока объяснялась с Иркой, в прострации глядя на её округлившийся живот, пока шла в свою комнату, вернее, уже, похоже, не в свою, уже со сдвинутой мебелью, содранными обоями… Столкнула коробки с дивана, освободила уголок, присела, с трудом расстегнула молнию, а сапоги не стащить: ноги опять распухли. Закусила губу, стянула один сапог за другим. Выпрямилась – и снова замутило со страшной силой. Когда вышла из туалет, отирая губы, перед ней стояла Ирка с чашкой воды в руках.
– На вот, выпей. Срок-то какой?
– Да не беременна я, проверялась.
– К врачу ходила?
– Тест сделала, – что, чашка уже пустая? Пойти налить ещё…
– Один раз?
– Да.
– А месячные когда были?
Когда? Да она со всей этой катавасией… неужели в конце ноября?
– Девять недель назад.
– Ты полоумная. Ты полоумная – Ирка перешла на свой обычный визжачий полукрик, – Да кто же верит этим тестам! Девять недель, и к врачу не пошла.
– Ира, ты же знаешь…
Ирка уже в своей комнате шарится по полкам и кричит, не переставая.
– Что я знаю? Что ты знаешь? Как мы будем жить теперь: два младенца в одной квартире! На,– протягивает коробочку, – Проверься. А завтра запишись к врачу. Может, ты и не беременна, только тогда точно больна чем-то.
Ещё один тест. Ещё раз раскрыть упаковку, проделать все манипуляции и сидеть на унитазе со спущенной крышкой, слушая, как Ирка кричит в трубку:
– Да Марина Марковна, извините, что беспокою, у меня срочное дело. Вы сегодня как принимаете? Вечером? Ох, Мариночка Марковна, а Вы очень заняты? Есть окно? Мне очень неловко Вас просить, но понимаете, сестра моего брата, там такая история, её парень бросил, а она вроде как в положении. В общем, я буду Вам очень благодарна, если Вы согласитесь сегодня же её принять.
Что, если всё-таки беременна? Да нет, столько лет прошло, всякая надежда пропала. А вдруг? Нет, нельзя. Он же безумный совершенно, и ребёнок, скорее всего, тоже будет такой, надо идти на операцию, ещё не поздно, слава богу. Но эти женские нотки в голосе, эти советы насчёт внешности, это ворчание свекрови на нерадивую невестку, эти выглаженные безупречно рубашки, этот суровый чужой голос неужели всё это тоже просто раздвоение личности?
Из коридора доносится:
– Всё, я договорилась. В пять часов тебя ждут. Тут недалеко, минут пятнадцать идти всего. Ты ещё поесть успеешь. У меня борщ есть и котлеты. Ты что будешь-то, Ань? Ну, чего молчишь, а тест как? Чего там?
Что там, действительно? А она сидит и не хочет смотреть. Она чувствует, что ей и не зачем смотреть. Она слушает шепчущее море внутри себя, огромное, бесконечное море чужих – нет, родных – да чужих же – и всё-таки родных жизней и судеб, и все они повторяют одно и то же:
– Единственный, единственный, единственный…
Аквариум(конспект)
В одной респектабельной конторе денег девать было некуда, да к тому же надо было чем-то показать посетителям, что они пришли именно туда, куда надо. Поэтому в просторном холле владелец поставил огромный аквариум и завел в нем множество водорослей, экзотических рыбок и разных битых кувшинов.
Потом наступили тяжелые времена, до того тяжелые, что над большинством сотрудников нависла угроза сокращения, но аквариум по-прежнему сиял, и посетители по-прежнему считали, что они пришли именно туда, куда надо.
А вот мой герой, назовем его Антоном, каждое утро проходя на свое место мимо сияющего аквариума, был занят совсем невеселыми мыслями. Он стал замечать, что начальник отдела смотрит на него как-то косо, постоянно заставляет заполнять отчеты о проделанной работе и велит тщательно отчитываться по каждому пункту. Да и у заместителя директора по кадровым вопросам появилась странная привычка вбегать в уютный закуток в огромном зале, где трудился Антон и огорошивать его вопросом: "Что Вы сейчас делаете?". В общем, мужчина чувствовал, что увольнение не за горами. И поэтому стал задерживаться в холле и от нечего делать считать рыбок. Но каждый раз число это было разным. Более того, с некоторым страхом он заметил, что количество рыбок неуклонно уменьшается. А в глубине аквариума чудилась ему какая-то прозрачная угрожающая сущность.
Антон пробовал делиться своими подозрениями с сотрудниками, но те только посоветовали ему обратится к психоаналитику. Молодая синеволосая девица в комбинезоне, которая раз в неделю приходила по вечерам чистит аквариум, в ответ на его вопрос подергала блестящую штуковину, торчавшую у нее в левой брови, и сказала:
– Ну, я не знаю. Вроде все на месте.
А рыб между тем становилось все меньше. И в один прекрасный день Антон обнаружил, что в аквариуме нет вообще ни одного обитателя, если не считать того, невидимого и прожорливого. Теперь ему казалось, что он видит, как хищник мечется в глубине в поисках еды. Мужчина с ужасом думал, что вот в понедельник придет деваха, снимет крышку с аквариума, и чудовище вырвется на волю.
Однако увидеть это ему не довелось. В пятницу с утра начальник отдела вызвал его к себе, разбранил за рассеянность и велел писать заявление по собственному желанию. Антон почесал в затылке, вынул лист из лотка для бумаги и пожелал уволиться немедленно. Вечером, уходя из конторы, он бросил взгляд на пустой аквариум и облегченно улыбнулся.
Неприятная ситуация
Мисс Макгинти разбудил неприятный резкий звук клаксона. Недоумевая, кому вздумалось сигналить на тихих улочках их маленького городка, мисс Макгинти встала, натянула свободные джинсы и куртку из бежево-розового флиса и пошла на кухню готовить чай. Собственно говоря, она предпочла бы выпить чашку крепкого кофе, но ее профессия обязывала придерживаться старых добрых английских традиций. В любой неприятности тебе поможет чашечка хорошего крепкого чая – гласила одна из них. Мисс Макгинти вздохнула и прополоскала ситечко, в котором неприятно топорщились остатки вчерашней заварки.
И тут ее настигло откровение. Было тихо. Совсем тихо, не считая мерного гудения закипающей воды. С ней никто не говорил. Ей не надоедала вечно ноющая старуха Смит, которой не повезло умереть от удара, не передав верной служанке семейный рецепт пирога с ливером. Суровый пуританин, так и не привыкший к цветущей флоридской земле и немедленно после смерти перенесшийся на родные йоркширские поля, не явился к ней поведать петушиным голосом очередную грозную цитату из Писания. Даже болтливая, увешанная амулетами старлетка, погибшая в крушении самолета и тем самым избегнувшая неизбежной смерти от передозировки в семидесятых, не надоедала ей, как обычно, гремучей смесью из буддистских, зороастрийских и каббалистических верований.
Мисс Макгинти была медиумом и всю свою сознательную жизнь слышала мертвых. В конце концов, она этим зарабатывала (и неплохо зарабатывала) последние тридцать семь лет. И вдруг неожиданно лишилась дара? Какая неприятная ситуация! Мисс Макгинти машинально залила в заварочный чайник кипятку и направилась к двери, чтобы забрать свежее молоко.
Молока на крыльце не было. На крыльце стояли только пустые бутылки, которые она выставила туда с вечера. Дело было неладно. Мисс Макгинти подняла голову и тут же поняла, что все еще хуже, чем ей представлялось. Улица была полна разномастного народа, разодетого так, будто наступил Хэллоуин. Мелькали бархатные, атласные, парчовые наряды, совсем уж допотопные холстины и живописные лохмотья. Во множестве присутствовали белые пелены и черные строгие костюмы. Между тем, народ в этих странных одеждах был вполне себе живой, здоровый, но по большей части смущенный и растерянный. Люди недоуменно озирались по сторонам, а в глазах их светилось любопытство. Впрочем, любопытство это они не спешили удовлетворить, потому что все спешили куда-то на восток.
Мисс Макгинти подумала, что вчера восток был вроде с другой стороны. Но было утро, и солнце должно было светить на востоке, где оно и светило необычайно ярко, привлекая к себе все эти толпы, заполонившие улицы городка.
– Мисс Макгинти, мисс Макгинти! – среди народа она различила преподобного Томлисона и приветливо кивнула ему головой. Тот пробился к крыльцу и недовольно спросил:
– Что же Вы стоите, мисс Макгинти? Почему не торопитесь на суд? Разве Вы не слышали трубу архангела?
Мисс Макгинти встревожилась.
– Уж не хотите ли Вы сказать, преподобный, что настал день Страшного суда?
– Вот именно!
– Но, позвольте, а где же дракон, и зверь из моря, и жена в родах, и четыре всадника? – спросила мисс Макгинти, хорошо знавшая откровение Иоанна Богослова (все-таки это был ее хлеб).
– Вероятно, мы как-то всего этого не заметили, – пожал плечами преподобный Томлисон, – Ну, идите же сюда!
Мисс Макгинти рассеянно подумала, что надо бы все-таки выпить чаю и переменить флисовую куртку на что-то более приличное, может быть, даже надеть шляпку… Но потом, махнув на все рукой, присоединилась к толпе. «В конце концов, -подумала мисс Макгинти, – платье в этом деле – не главное».
Зеленая улица
Когда Марина собиралась к Вадиму на дачу, она ожидала, что все будет, как обычно, – шашлыки, куриные крылышки на гриле, немного красного вина (и она, и Вадим не любили пьяного угара), а потом – долгая нежная ночь. Но что-то не заладилось. Может быть, все случилосьот того, что она забыла привезти помидоры и огурцы? Целый пук зелени купила на рынке и плоские, словно патиссоны, фиолетовые крымские луковицы, и ноздреватые, посыпанные кунжутом узбекские лепешки – а салат делать не из чего! Может быть… А может быть, Вадим и специально все это устроил. Уже пару месяцев Марина замечала, что как-будто надоела ему. В общем, из-за этих дурацких помидоров разразился скандал, но она, дура, понадеялась, что все утихнет и осталась. Ела мясо, как назло, дивно приготовленное, деланно восторгалась маринованным луком, прихлебывала вино из стакана… А к вечеру уж совсем не из-за чего разразился второй скандал. Такой, что в двенадцатом часу ночи она подхватилась и сбежала.
И вот теперь едет, глотая слезы, по ночному городу. Не заметила, как свернула с шоссе на кольцевую, не заметила, как съехала с кольцевой, как замелькали по сторонам одинаково унылые дома спального района. В этот поздний час машин на улицах почти не было, на светофорах ее встречал зеленый свет и она, не замечая, гнала, гнала, гнала…
Но что-то было не так. Что-то мешало ей до конца погрузиться в отчаяние. Что-то резало глаза. "А почему светофоры зеленые?" – подумала женщина, – "Ведь они давно уже должны были перейти в ночной режим?" Марина присмотрелась на одном перекрестке, потом на другом: везде горел зеленый свет, буквально везде – и для нее и для поперечной улицы. И – странное дело, на улицах не было не только движущихся машин, не было и обычно густо припаркованных у тротуаров автомобилей.
Редкие освещенные окна домов мелькали по сторонам. Но во всех них за тонкими занавесками была видна одна и та же картина: круглый стол с кувшином на столе, в кувшине пышные цветы, сверху над столом свисает большой белый колпак светильника. Марина испугалась. Мир вокруг показался ей декорацией в старом голливудском фильме. И тут женщина поняла, что так мучило ее всю поездку по городу: свет! Тени от фонарей, которые обычно при поездке то удлиняются, то укорачиваются и, играя, создают переменчивые блики, теперь застыли и мирно лежали, словно картонные обманки.
Надо остановиться! Но как? Машина продолжала набирать скорость и не слушалась управления. На спидометре застыли три восьмерки. Женщина заплакала. Светофоры замелькали по сторонам, расплываясь в глазах, а автомобиль все мчался и мчался вперед по фальшивому городу.
Прозревший
1
В городе Н его знал каждый. И каждый знал его историю. Антон вырос в бедной семье одинокой санитарки, в неполных шестнадцать лет закончил школу с отличием и уехал в Москву поступать в университет. Университетов в Москве тогда было только два, а среди умных мальчиков котировались математики и физики. Антон был математиком, и математиком хорошим. Кроме того, среди мальчишек популярны те, кто знает, как и когда надо пустить в ход кулаки. У Антона был юношеский разряд по самбо, и ему не нужно было надевать кимоно, чтобы это доказать. Толи потому, то он был хорош в математике, толи потому, что он был умел в самбо, он с легкостью поступил на матмех в МГУ и начал учиться с энтузиазмом, но закончил его уже шаляй-валяй. К концу четвертого курса Антон уже мало интересовался матрицами мнимых чисел; гораздо больше его интересовал курс доллара у столичных валютчиков.

