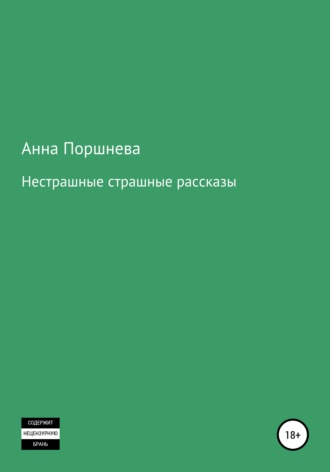 полная версия
полная версияНе страшные страшные рассказы
И Сергей принялся сочинять считалку. Сначала он хотел сделать так, что он был красавцем. Не вышло. Потом, чтоб все считали его красавцем. Опять осечка. Потом, чтоб Олька в него влюбилась. Никакого результата. Он мог словами разрушить кирпичную стену. Он мог вызвать дождь. Он мог поправить сгоревшую лампу в телевизоре или зачинить дыру на брюках. Но над людьми слова были не властны. Продумав ночь и день, Серёжка решился на эксперимент: заперся вечером в ванной комнате, полоснул через ладонь лезвием, зажал рану и стал читать заранее сочинённые слова. Не помогла ни считалка, направленная на остановку крови, ни та, что была придумана для излечения, ни облегчающая боль. А шрам на руке остался на всю жизнь.
Через месяц, когда пальцы стали снова слушаться, он оторвал от растущего в горшке цветка лист и попробовал его приживить. Безрезультатно. Попытался вырастить из почки новый. Нет. Раскрыть набухший бутон цветка. Не возможно. Попытался внушить маме, что растение зацвело. Та приняла всё за шутку. Слова не действовали на живой мир никак: ни объективно, ни субъективно. Серёжка вздохнул и от огорчения вызвал жуткий буран. А назавтра их всем классом вызвали в школу, несмотря на каникулы, и устроили комсомольское мероприятие – заставили чистить дорожки у школы и районных детсадов.
Открытие, конечно, было неудобным. Зато другое открытие, сделанное в тот день, когда Сергею исполнилось семнадцать, искупило всё. В этот день он услышал музыку мироздания, и понял, как всё живое вплетено в неё. Он понял, что может изменять эту музыку. Конечно, легко, нежно, осторожно. Кое-что поправлять, делать крепче, лучше. Он понял, что может сделать мир лучше. Он ощутил себя соавтором Бога. И, наверное, он бы и стал им, если б не эти б-ди.
Женщины стали для него проклятьем. Сначала это дурацкое юношеское состояние, которое глупые дырки смеясь называют «спермотоксикозом». Потом не менее глупое состояние, называемое любовью. Её звали Таня, она была на два года старше, они познакомились на дискотеке и сразу вспыхнули. Когда было можно, они прогуливали лекции (Таня училась в университете, на филфаке) вдвоём, а уж после занятий старались вовсе не разлучаться. Отец, мудрейший человек, предупреждал его, конечно, особенно указывал, что девушка иногородняя и имеет материальный интерес, но он ничего не слушал. А потом внесли изменения в законы, и его с третьего курса призвали в армию. Таня плакала, обещала ждать и писала нежные длинные письма. Потом замолчала и не отвечала на его призывы.. А когда он вернулся через год с небольшим (В законы опять внесли изменения, и его дембельнули раньше срока, даже в дедах не пришлось побыть), то первым делом помчался к ней в общагу, где узнал, что Танька вышла замуж за курсанта, с которым давно уже крутит, что женились они «по залёту», что она перевелась на заочное, уехала с ним в гарнизон, и что у неё уже полугодовалый сын. «Посмотри», – сказала одна из Танькиных соседок и протянула ему фото, на котором прыщавый длинный парень в лейтенантской форме, прижимал к себе какую-то малознакомую болезненную женщину в цветастом странно висящем на теле платье с кульком на руках. – «Это он из роддома её забирает».
–
А как они познакомились? – спросил он, бессознательно отмечая знакомые черты в этом исхудавшем оплывшем лице с огромными синяками под глазами.
–
Да они со школы знакомы, с Витебска ещё.
Он вернулся домой, собрал все подарки, письма и вещицы, оставшиеся от Тани, сложил в ванну и сказал два слова. Взметнувшееся пламя достигло потолка и опалило ему брови. Он загасил его движеньем руки, уничтожил копоть на потолке, и трещинки в эмали, смыл пепел и пошёл к себе в комнату, не отвечая на взволнованные расспросы матери: составлять план жизни на ближайшие двадцать лет. План, в котором не было места женщинам.
6
Если б он тогда обладал достаточной силой воли, он бы следовал составленному плану и не допустил сучек в свою жизнь. Но он был ещё слишком наивен, к тому же хитрые твари всегда знают, когда мужчина слабее, и норовят напасть именно в этот момент. Как раз была самая удачная пора в его жизни: все вокруг сколачивали состояния, и то же делал он. Но в отличие от серых жадных торгашей, он знал, не только на чём можно сделать деньги, но и как при этом выжить. Он делился. Делился щедро, и всегда с теми, кто оставался у дел надолго. Иногда ему приходилось прибегать к недостойным фокусам вроде отказавших тормозов или неожиданно пустой шахты лифта, но очень редко: он не любил прибегать к окончательным решениям. Он был гибок в деловых вопросах и считал, что нет ничего страшного в том, чтобы носить жуткий малиновый пиджак и цепь в палец толщиной, даже если нравятся совсем другие цвета и металлы. Он шёл в гору. И отец тоже весьма удачно вписался в новый мир. А вот мама не смогла.
Всегда хрупкая, тихая, изнеженная заботой мужа и сына блондинка, не могла выдержать той дряни, которая лилась на неё с экрана телевизора, из радиоприёмника, из газет, с улицы, от соседок, отовсюду. Однажды вечером после очередного громкого покушения, она сказала мужу:
–
Что-то, Серёжа, я устала сегодня слишком. Пойду, лягу пораньше.
И когда через два часа отец, стараясь не шуметь, вошёл в комнату и коснулся плеча жены, оно уже было холодным. Врач сказал, что она умерла от обширного инфаркта, вызванного редкой инфекционной болезнью сердца. «Возможно», – добавил он, – «Если бы она обратилась раньше, мы могли бы чем-то помочь. Но она бы долго не прожила: уже развивался отёк лёгких». Мама была редкой женщиной, и умерла от редкой болезни. На похоронах светило солнце. Стоял сухой октябрьский день, Сергей стоял рядом с отцом и щурясь, выслушивал нескончаемые соболезнования и вздохи: «Такая молодая!», «Кто бы мог подумать!», «Крепитесь, молодой человек, крепитесь. Сергей Анатольевич, какая это потеря для всех», «Она была удивительной женщиной. Такая мягкая, с таким талантом любви и понимания. Мне очень будет её не хватать.»
Сергей поднял голову и увидел её. Ту, которую невозможно забыть. Ту, которая сделала всё, чтоб он не смог забыть. Невысокая, почти маленькая, невозможно хрупкая и в то же время не тощая, с удивительно тонкой талией и длинной шеей, с кожей, удивляющей чистотой и оливковой благородной смуглостью, с огромными почти чёрными глазами, выдающимися ресницами, изящными тонкими бровями, с коротко стриженными, как тогда было модно, и выкрашенными в огненно-красный цвет волосами… С глубоким, выразительным проникающим в душу голосом. Она была не женщина – ангел, он сразу это понял, несмотря на дикую вызывающую причёску фасона, который он всегда ненавидел.
На поминках они разговорились. Ольга, внучка испанских беженцев, работала в мамином институте переводчицей с романских языков и часто встречалась с мамой во время конференций, при подготовке статей и просто так, потому что мама всегда была рада хорошему знакомству. Они договорились встретится, потому что в бюро переводов осталась пара маминых статей. Потом, чтобы передать доверенность на получение маминой зарплаты. А потом стали встречаться уже без повода.
7
Ольга обладала удивительным качеством: она не демонстрировала свои достоинства, она словно источала их медленно, привязывала незаметно, заполняла собой мысли, душу и сердце неявно, так что невозможно определить, когда и как она стала для Сергея всем. И почему она стала для него всем, тоже было непонятно. Нельзя было назвать её красавицей, особенно, когда она хохотала и показывала огромные неровные верхние зубы. Но ей достаточно было нетерпеливо взмахнуть кистью руки, мелькали тонкие пальчики, звучало короткое «Баста!», смех умолкал, и снова из –под тёмных густых ресниц струилось тепло, в которое хотелось погрузиться навсегда. И ничего в её глазах, кроме формы и цвета, не напоминало о мстительном суровом нраве её предков. Когда они стали жить вместе, она оказалась такой же ловкой и умелой хозяйкой, какой была мама. Ни шума, ни суеты, ни особых стараний заметно не было, но в доме поселились уют, мир и мягкий запах чистоты. Она казалась ангелом. А была, конечно, как и все они, просто лживой ссучившейся бабой.
И ведь судьба стучала ему в темечко, подавала знаки: и звали-то её Ольгой, как первую неудачную любовь, и была она филологиней, как проклятая Танька, – да глазищи чёрные, ведьмины, запутали его. К тому же отец, как с ума сошёл, через полгода привёл в дом двадцатитрёхлетнюю секс-бомбу, Сергей, обидевшись за память матери, разорвал с ним всякую связь, и наставить его на путь истинный было некому.
Мало-помалу, впрочем, у него открывались глаза: то Оленька плохо спала по ночам, металась и стонала, то говорила с кем-то полушёпотом в ванной по радиотелефону, то убегала среди ночи на чьи-то тревожные пейджерные писки. А он не спрашивал. Он оставался добрым, мягким, понятливым и наблюдал. Вот она попросила у него пятьсот тысяч рублей, торопливой скороговоркой пояснив: «Понимаешь, надо маме туфли купить к лету, а у меня нет сейчас совсем. Я верну, верну», а назавтра, вернувшись с работы в десятом часу, также скороговоркой пробормотав «Ой, Серёженька, не сейчас, я так устала: был срочный перевод», заперлась в ванной, пустила воду и тихо плакала там. Он разрывался от боли и недоумения: ей было плохо с ним, она обманывала его, но почему, почему! Ответ был таким невозможно очевидным и таким очевидно невозможным, что он несколько месяцев боялся сказать самому себе: у Ольги был другой мужчина. От её подружек, из подслушанных разговоров, из отрывочных фраз, которые она шептала во сне, он понял, что это её бывший. Но он не торопился – серо-синий человек довольно усмехнулся, припоминая, каким смышлёным показал себя наконец, – следил, и однажды, когда она опять разговаривала, закрывшись в ванной, осторожными пасами приоткрыл чуть-чуть дверь и услышал достаточно, чтобы всё понять. А говорила она вот что:
–
Нет, Андрей, завтра я не смогу. Надо ещё денег достать, я понимаю. Я достану, у Сергея возьму или как-нибудь ещё. Да, конечно, я перезвоню.
Потом всхлипнула, набрала другой номер и:
–
Мама, это я . – вот проклятая стерва! Так он и знал, что без маминых советов не обошлось, – Он опять звонил… Ну, мама, он обещал, что в последний раз… Нет, я так не могу. Ему помочь надо…Нет, Сергей не знает ни о чём. А, может, рассказать ему?.. Да, про ребёнка я тоже не сказала. Чуть позже, когда время будет подходящее…
Дальше слушать он уже не мог. Распахнул дверь, отвесил пощёчину, с удивлением отметив, как от удара развернуло её всю, и из отлетевшей в сторону руки выпала трубка, прямо в ванну, на две трети наполненную водой, выпала. Кричал что-то, требовал объяснений, слышал её лепет о том, что это её бывший, который очень болен, «он зависим, Серёженька, понимаешь? Я не могу его бросить пропадать так. Я должна ему помочь», неожиданно стих, дослушал её нелепый жалкий бред, рассчитанный на тупоумного идиота, и спросил сурово и отчётливо:
–
Так ты мне ещё ублюдка наркоманского подсунуть хотела? Вон из моего дома, б! – А она перестала плакать, умылась, вытерла руки насухо, переменила домашнюю рубашку на свитер, взяла сумочку и вышла. И даже за вещами своими не прислала. И работу сменила. Всё-таки была гордая, редко такая встречается среди сучек.
И потекло всё у Сергея с тех пор гладко и удобно. Он пользовал потаскух, растил бизнес, похоронил отца, которого рано хватил удар от непривычных излишеств, с удовольствием затаскал мачеху по судам и оставил ей немногим больше того, с чем она заявилась к ним в семью, быдло Воронежское. Он привычно поддерживал порядок в мире, наслаждаясь своей тайной значительностью. Он был счастлив. Ещё неделю назад он считал себя самым умным и удачливым человеком в мире. А потом всё полетело в тартарары.
8
Между тем пожилой мужчина и его красивая спутница довольно спорым шагом пересекли квартал, вышли к улице Олеко Дундича, перешли её и миновали недавно выстроенный полузаселённый жилой комплекс с громким названием вроде «Южного бриза» или «Изумрудной гавани». Они не разговаривали. Женщина как будто ни о чём и не думала, а вот мужчина грезил не без приятности, грезил давним прошлым.
Май в том году был длинный и холодный, даже, кажется, к концу его и снег выпал. Потому неудивительно, что, хотя и ясный вечер, и зелёная травка под окном, и деревья запотянулись листвой, а печь всё-таки топится в полную силу, и камин этот, в болотно-зелёных голландских изразцах, чудо заморское, весь день грелся и только сейчас начал тепло отдавать. Хорошо, что устроились в кабинете, а не в гостиной. Хорошо, что можно по-стариковски укутаться добрым пледом. Хорошо, что масляно-блестящая янтарная жидкость в бокале тоже греет, хотя, если б не Яков, он бы беленькой гораздо охотнее согрелся. Ах, Яков-Яков! Как он, шельмец, разбил его много дней лелеемую в мыслях, несокрушимую, как казалось, оборону! И вот теперь, чтобы сохранить остатки чести и попытаться выйти на ничью, тянет он время, то потягивая коньяк, то грея руки на груди под пледом. Недостойно, нелепо, прямо скажем, смехотворно ведёт себя в своём же доме!
–
Ну, Иван Платонович, – говорит Яков, поблёскивая цыганскими зубами и потряхивая богемными кудрями, – решайтесь уже. Жертвуйте мне свою ладью, и будет Вам мат в пять ходов. Ну, а коли пешку… Нет, только из одного уважения, я Вас в патовую ситуацию не допущу. Благородному дворянину не к лицу прибегать к таким детским уловкам, а другому благородному – м-м-м-м – дворянину не к лицу потакать подобным слабостям.
–
Ай, чёрт с тобой, чёртов сын! Бей, не жалей! – притворно горестно взмахивает он ладьей и стукает ею о доску.
–
Не поминали б Вы его так громко, Иван Платонович, ибо услышит Марфуша
, и будет нам с Вами знатная истерика заместо знатных щей. Хотя никогда не одобрял Вашей этой привычки к супам здешним варварским, но, должен признать, её весенние щи из молодого щавеля да ежели к ним пирожки с ливером и гречневой кашей – редкая прелесть!
И когда успел, вроде так и остался стоять у камина, пальцем исследуя стыки между изразцами, а ладья уж съедена, и куда ни кинься…
–
А сдаваться не хочется.
–
Нет, не хочется. Хотя, правду сказать, Яков, я тебе не противник. Постыдился бы и играть со мной садится, о стариком. С твоим-то опытом, да с твоими силами!
–
Как старик старику позволю себе указать, что не я тот в этой комнате, кто был замечен в использовании силы.
–
Ах! – взмахнул рукой, позвонил в колокольчик, и вот прошуршала по коридору, вплыла в комнату розовощёкая дородная Марфуша – богобоязненная кухарка, вдовеющая уж шестой год.. – Подавай-ка, Марфа, ужин в кабинет, в столовой, я чай, холодно. – кивнула и уплыла пышной павою – в доме не принято было, чтоб прислуга говорила, а паче всего слышала лишнее.
Ещё два хода, и уж совершенно очевидно, как позорно будет поражение.
–
Да, – с неохотой признаёт Иван Платонович, – с тобой-таки мне не след схлёстываться в шахматы.
–
А с Андереем Ильичом Вы разошлись.
–
А с Андреем я разошёлся. И уж не сойдусь никогда. Эти шутки его вечные, это легкомыслие преступное. Надоело мне за ним убирать, да-с
–
Но славной вы были парой. Мне, одиночке, никогда не понять было уз товарищества. Да и любви тоже, – вздохнул, пожал плечами и взглянул в сторону Марфуши, вносящей дымящуюся супницу, в её сторону, но в сторону от неё, и глаз сделал томный, жалостливый. Ах, подлец! А дура эта толстомясая и зарделась! Отхлестать бы, негодницу, да времена не те.
И уже, когда всё съедено, и закушано, наконец-таки, настоящей беленькой на смородиновом листе, и тонкая коричневая сигарка, уже не первая, и не вторая даже, дотлевает в хрустальной пепельнице, найти повод подколоть и спросить у Якова:
–
А признайся, шельмец, это ведь ты дон-жуаном-то по Гишпании
полвека скакал? – и взглянуть в непроницаемые чёрные глаза, полные холодного бессердечного веселья.
Ах, ну как же не хочется вырываться из того славного вечера даже на минутку и возвращаться в здешний бедлам и непорядок, а надо!
–
Ирина, друг мой, а, пожалуй, Вы правы: надо вернуться к молодому человеку.
И в ответ ни слова, ни взгляда, ни движения руки, просто исчезла, только лёгкий ветерок коснулся щеки.
9
Франкфурт. Утро. Зал ожидания. Позади переговоры и предварительное соглашение лежит в кейсе рядом с буком. Он волновался слегка, что скрывать! Настороже был, когда демонстрировал работу своей штучки, наготове, если вдруг откажет программа, вернуть всё к жизни правильными словами. Но не понадобились слова, всё сработало так, как должно было работать, так как он замыслил и исполнил. И теперь уже можно расслабиться, снять с лица жизнерадостную уверенность, выкинуть из головы заботы на время и поподсматривать за людьми. Эх, какие же все вокруг банальные и предсказуемые! Толстые бюргеры с пиджаками, перекинутыми через локоть, с вечными мокрыми пятнами под мышками, а вон у того, в голубой рубашке, даже и на животе. Деловые женщины: сухопарые, высушенные тщательными тренировками и йогой, в брючных костюмах и туфлях на низком каблуке или в непростительно дорогих джинсах и обманчиво простых рубашках мужского кроя. Русские фифы – их ни с кем не спутаешь – в босоножках на шпильках, в шортиках и кружевных блузках, в полном боевом раскрасе, с волосами, тщательно вытянутыми и залитыми лаком на палец (это в полседьмого утра-то! ), с сумочками, в которых могут поместиться разве что их куриные мозги. Дети, как всегда: шумные, надоедливые, кричащие, стучащие, падающие, орущие, опасно размахивающие мороженым и прилепляющие жвачку повсюду. Он бы запретил перелёты детям до восьми, нет, даже до десяти лет. А что до их легкомысленных родителей…
Нет, вы только посмотрите: вот малыш, в одной маечке и памперсе, месяцев десяти, что ли, сидит прямо на полу и ногу в рот засовывает! А папаша рядом, поправляет заколки в волосах смуглой пампушке лет семи, у той волосы заплетены в два десятка жгутов и каждый перехватывает вишенка или жучок или клубничка. Ну а мать где? Вот дела: да она кормит второго, шнуровка бежевого свободного платья распущена, чёрные длинные волосы скрывают склонённое лицо, младенца и обнажённую грудь. Подумать только: притащиться в аэропорт с двойней! Латиносы, одно слово. А мать-то уж наверняка ещё и с примесью индейской крови, не иначе. Поправляет блузку, рассеяно оглядывается и кричит низким волнующим голосом. Смотри-ка, а он ещё что-то помнит из испанского:
–
Пабло! Иди сюда, помоги
Рири, отец занят с Марией-Вероникой!
–
Да, мама!
Он рассеяно проследил взглядом, откуда пришёл ответ, и перестал дышать: белобрысый сероглазый подросток смотрел прямо на него и был так знаком и так не знаком, как может быть только собственное лицо, которое видел когда-то в зеркале. Когда-то, лет двадцать пять лет назад. И он уже не мог оторвать взгляда, следил, как парень подбежал к заползшему уже под скамейку малышу, протянул руки, сказал что-то вроде «дай-дай», осторожно поднял на руки, и ласково похлопал по золотистому пушку на темени.
– Иди сюда, мой масечка, сейчас мама тебя покормит… – Ох ты, господи, она! Дыхание вернулось, но сердце забилось так часто, что он предпочёл бы, чтоб остановилось вовсе. Она, те же тёплые глаза, те же тонкие пальцы, шея та же, такая стройная, гладкая, что пальцы болят от желания прикоснуться и узнать, такая же ли шёлковая.
И тут уж ни сила воли не помогла, ни характер: ноги сами понесли туда, к ним.
–
Ольга? Ты? Вы?
–
Здравствуйте, Сергей. – И в голосе уже гортанные чужие нотки, а в глазах – лёд, лёд и ярость. Теперь-то он точно знает, что ярость, а не страх и не вину источали её глаза в тот вечер.
–
Послушай.. те, нам надо поговорить.
–
Мне от Вас ничего не надо.
–
Но ведь это мой сын! – полузадушенным голосом.
–
Ошибаетесь, – тихо, но ясно отвечает она, – Прежде Вы, помнится, назвали его наркоманским ублюдком и выгнали вместе со мной из своего дома. А отец его – вот он. Волдомиро, это мой старый знакомый по России. Какая удивительная встреча! Ведь мы лет тринадцать не виделись? А я уже давно в Чили живу. Замуж вышла, дети, работаю на дому: коммерческие переводы. У Вас, я вижу, тоже всё хорошо, – и оживлённый радостный взгляд скользит по пустому безымянному пальцу.
И он рад бы достать бумажник и показать фото жены, детей, да там только фотография Ассы – голубого сиамского кота, его единственного любимца.
Что можно было сделать? Улыбнуться в ответ, пожать руку этому Волдомиро, пожать руку сыну, повернуться и пойти к табло, чтобы увидеть, что посадку объявят только ещё через восемь минут. Войти в салон, осесть в широком кресле, попытаться напиться, и не смочь. И яростно кусать мизинец весь полёт, и желать проклятой ведьме провалиться ко всем чертям, и мучится несколько дней, и понять, что равновеликой мести придумать он не может, а потом решить: раз она с ним так, раз все они с ним так, так пусть летит к чертям этот гнусный мир, и этот гнусный город пусть летит к чертям первым!
10
Это совсем несложно оказалось. Когда знаешь, что за что цепляется, и что во что впадает, всего-то и надо чуть-чуть покривить крючочки и чуть-чуть повернуть потоки. Вот только гармонии эти, такие хрупкие, но такие сильные, упругие, всё норовят вернуться на место, и надо продолжать немножко гнуть и поворачивать. Каждый день, каждый час, каждый миг. И теперь уже почти всё. Ещё подтолкнуть немножко, и зашатается, расползётся, рухнет. Не зря он и повторил про себя эти давние и недавние события, чтоб быть совершенно уверенным, чтоб всё сделать на совесть, так, как учил отец: «Если ты хочешь довести дело до конца, надо действовать верно. А верно так: делать методично, по порядку, каждое действие, каждое слово».
Вот он всё и вспомнил. Да только получилось совсем не так, как он ожидал. Он думал, что вскипит в нём гнев, и поможет, и подтолкнет, и устранит сомнения, заглушит совесть, выпустит последнюю страшную считалку, и всё. Больше ему уже никогда не быть водой. А вышло наоборот: он стоял посреди ветра и хохотал. Господи Боже, ну как же всё смешно! Не жизнь у него получилась, а латиноамериканский сериал какой-то! И сам он с банальной ревностью, которую не смог ни опознать, ни успокоить при всём своём громадном (вот болван-то! ) уме, и Ольга с её жестокой беспечной местью, и отец со своей неожиданно поздней грудастой любовью, и даже эта, Мария-Вероника, с именем, словно из мылодрамы венесуэльской, и пропавший найденный сын, и разрушение мира… Из-за чего? Из-за того, что где-то подросток ломающимся голосом называет «папой» другого мужчину? Да пусть живёт! Пусть все живут! И он сам ещё может жить, и жить, и жить! Свобода наполнила его, раздула счастьем, подняла над землёй и закружила, так что он закричал, перекрывая голосом ветер что-то нечленораздельное, но радостное.
–
Да не волнуйтесь Вы так, миленький, – сказала красивая и добрая (и так похожая на маму) женщина, возникшая из пыльного облака рядом, потянувшаяся к нему, чтобы обнять и успокоить, – всё будет хорошо. – И вдруг оказалась высоко над ним. Взлетела тоже, что ли? Ах, нет, это у него отчего–то ноги подкосились, заболел, видно, жар. А вот и мама, встряхивает блестящий градусник, от него кончик откололся и ртуть разлетается яркими алыми (Почему алыми?) брызгами. И вовсе это не брызги, это паруса. Такие алые-алые, такие красивые, жалко, что у него жар, от которого в глазах темнеет и душно что-то.
11
Иван Платонович пробудился от воспоминаний, почувствовав, что ветер стих. Эх, Андрюша – Андрюша, старый друг, с его вечной верой в мудрость природы, в то, что опыт – лучший учитель, в естественность добра. Вот и бегай теперь, забросив куда как более важные дела, исправляй его ошибки и ошибки его крестников. Грязно, гадко, и на душе мерзко, а надо. Сами-то они никогда не останавливаются. Да, а окурков-то вокруг, Господи! И когда успел? Вот дурная привычка!
–
Ирина, друг мой, у Вас на туфле кровь. – Совсем некстати эти буреющие пятна на бежевом нежном лаке.
–
Дождь смоет.
–
Да, смоет. Будет ещё тот дождь. А потом будет занятия и дорожникам, и коммунальщикам: грязи-то накопилось, деревьев поваленных, да и канализация эта их хвалёная, небось, выйдет вся наружу. Эх, цивилизация!
–
Ничего. Это их работа, – смотрит равнодушно, даже как будто скучает. Значит, надо поговорить.

