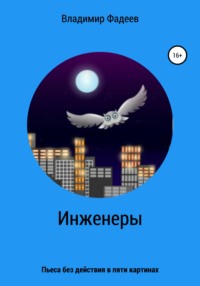Полная версия
Возвращение Орла
– Какие ещё?
– Ну, сохранения энергии… ты её как будто тыришь где-то.
Не ответил, и – ни всплеска, словно и не вода была под ними.
«Не понял, или…»
– Лёха, а ты можешь мысленно загнать рыбу в свои сети? – не унимался заинтригованный Аркадий.
– Как это?
– Тебе лучше знать! Ведь можешь?
– Какие вы в своих институтах… прямоголовые. Никого никуда загнать нельзя, всё это не так.
– А как, как? Или ты просто видишь, когда она уже попалась…
– Да как её увидишь?
– Не знаю, ты же видишь, не я…
– Тебе кто мешает? Видь себе на здоровье.
– Вот почему мы плывём к этой сетке, а не поплыли к той, за травкой?
– Потому что та пока пустая.
– Значит, ты знаешь, что она пустая?
– Что же тут знать, если она – пустая?
– Фу, ты! Не хочешь, не рассказывай, чего Ваньку валять?
– Сам не знаешь, что спрашиваешь.
– Ладно, скажи, какая там сейчас рыба?
– Поднимем, посмотрим.
– А как ты думаешь?
– А ты как думаешь?
– Десяток плотвиц и щучка, – сказал, уполовинив содержимое вчерашнего мешка, Аркадий, – да, и один подлещик. – Он неотрывно смотрел на лицо речного духа, пытаясь поймать хотя бы след какой-то внутренней работы, напряжения, отрешения…
– Нет там никакой щучки, и плотвы нет, кончилась плотва, скатилась… Пяток густёрок и два карася.
– И за этим плывём? – фальшиво передразнил, сам бы поплыл и к пустой сети: а вдруг?
Лёха опять промолчал – сделался продолжением весла, которым совершенно не грёб, а просто опускал в воду по одному борту, а чёлн при этом шёл резво и ровно, как под откос по смазанному маслом и спрятанному под поверхностью воды монорельсу.
– И ещё за одной рыбкой… хор-рошей рыбкой, давай, готовь мешок!
– Кого загнал? Признавайся, чёрт болотный!
– Судак, Аркаша, судак, не так чтобы велик, килограмма, может, на два, чего он тут забыл…
«Видит, шельма, видит, и про Орла знает, знает, что не бывает, а если бывает, то не потому что бывает, а почему-то другому!»
Неожиданно подтабанив, Лёха подцепил верёвочный отвод, Аркадий перехватил конец сети и сразу услышал сильные удары. Пропуская густеру, подтягивался по сети к её середине.
– Чего рыбу не вынимаешь?
– Эту успеем, как бы не ушёл.
– Куда ж он теперь…
Судак сильно замотаться не успел, видно было, попался только что, зубы да одна жабра в ряж, а рядом – как зацепилась? – плотвичка-дюймовочка. Густёрок оказалось семь, а два карася – Аркадий уже собирался хмыкнуть: не угадал! – притаились парой в самом нижнем углу сети, пришли, видно, на муть, поднятую вторым грузом.
Когда плыли назад, Аркадий рассуждал:
– Ты, значит, становишься судаком, и он, поскольку оно уже не он, а ты, плывёт, куда тебе надо. Так?
– Если б я стал судаком, на хрена бы пошёл в сеть?..
«Действительно…»
Вторая сеть и вправду была пуста – Аркадий настоял проверить из принципа.
Обратно до косы плыли по туманцу, он не опустился, не сгустился, как случается по утрам, а низким облаком набежал со стороны Деднова. Вспомнился вчерашний парусник поперёк реки.
– Лёх, а это, ну, корабль вчерашний – всё миражи?
– Миражи… миражи они не сами по себе миражи, они чего-то миражи. Если есть миражи – тут где-то и настоящий, а так с чего бы им взяться, миражам? Надо только отличить.
– Как в сказке про Марью-искусницу? Угадаешь настоящую – воля, ошибёшься…
– Неволя, – закончил за него Лёха и с прищуром посмотрел в заволакивающую реку белую марь.
– Значит, корабль всё-таки есть?
– А ваш этот, воскресший, откуда родом? – Перебил своим вопросом аркадьевское любопытство.
– Лыткаринский вроде.
– Не-е, – покачал рыжей гривой, – он не лыткаринский, там Москва, там другое…
«Что там другое? – принялся соображать Аркадий, – Может, он не Москву имел в виду, а Москву-реку? Наверное, реку. Просто странно было, когда их Москвареку называли как бы не полностью. С детства жил во всех лыткаринцах этот звуковой штамп, и никто не называл обнимающую город красавицу просто Москвой. Москва – это город, столица, вон она за дзержинскими дымами, а река не Москва, а Москварека, одно слово, без всяких вольностей в середине. Куда? На Москвареку, Где? На Москвареке. А Лёхе откуда знать? Вот он и запутал его. Лёха ведь в городах ничего не понимает, кроме Луховиц и Коломны нигде, поди, и не был, он географию только по рекам знает, и знает, от какой реки при рождении на её берегах какую силу получить можно. Там Москва, там другое. Что другое? Почему такое уж другое – приток ведь, здесь, между прочим, в Дединово, тоже она течёт, Москварека, вся до капельки, и для нас здесь ничего не другое, я даже запах москваречный здесь различаю. В Калуге вот этого запаха нет, а в Коломне есть. Постой… а ведь Орликов-то – Орловский! В Орле то Москварекой и не пахнет. Был бы он рязанский, или касимовский, да хоть муромский, тогда бы – да, был бы в нём московский дух, а в орловском – откуда? Там своё, там другое… Но – что? Что вообще может оставить в человеке протекающая рядом с роддомом, где он родился, река? Как будто человек не человек, а – отмель, банка, на которую река наносит свои сапропели. Или и на человека наносит? Ведь я же через ржавую линзу Ютницы чего только не насмотрелся! А Семён приезжал – ничего не видел. То есть я и без Лёхи это знаю, но вот треклятый материализм, физика эта грёбаная – не бывает и всё тут! Раз не бывает, то и не пользуемся, а не пользуемся – уже и на самом деле не бывает. А Лёха не знает, что не бывает, и пользуется, а от того, что пользуется, у него всё и бывает. И судак, и два карася… да что караси, это ж представить страшно, какие он, пьяница, через свою Оку пространства может разглядеть! Может быть он и в нас не человеков видит, а речных духов? Ну, не духов, не маленьких духов по отдельности, а того речного духа, который нам всем вроде со-родителя и который один и есть настоящий вечный насельник той земли, а мы – именно что духи, появились на одну коротенькую жизтёнку, как дым под сапогом из пыхалки, дедушкиного табака, и опять смешались, бесследные, с прелыми глинами. Но если есть дух Москвареки, кем он приходится духу всей Оки? Младшим? Или вроде руки? Нет, что он, Шива что ли многорукий… тогда – пальца… фу, нескладно. Скорее вроде пёрышка на крыле, крыло же – Ока, может даже и Волга… Ух… а что же тогда сама эта птица? – от масштаба догадки у него перехватило дух и дальше он даже думать стал, как и дышать, неровно, отрывисто. – Так вот кто… а мы-то… Э-эх!..
Ещё думал: подплывём, а Орликова нет, в смысле нет за столом, а лежит, как и положено трупу, в палатке. Не по-доброму, зато понятно…Нет, вон он, сидит, мучается.
Одно дело умирать за Родину, другое – за так.
В каких только похмельных глубинах не побывал за четверть века боёв со своим зеленым спарринг-партнёром Михаил Васильевич Орликов, но нынешнее состояние ни с одной сопоставить не получалось – жуть, равная по амплитуде физических мучений всем прошлым всплытиям с пьяно-коматозного дна, получила как будто ещё одно измерение, можно было бы назвать его душевным, если б таким именем не назывался уже букет жестоких угрызений перед собой и миром окружающих родных и близких, знакомых и незнакомых людей. Если прошлые угрызения имели какую-то границу и телесные корчи вытесняли их на периферию сознания, то теперь на их месте словно пропасть разверзлась, из неё потянуло абсолютными чернотой и холодом, и размера души не хватало вместить эту чёрную глубину – душа рвалась в лоскуты, лопалась, расползалась, крошилась… собственно, как таковой её и не было, и лучше было, если бы лопнули ещё и мозги, чтобы не было возможности осознавать масштаб беды – право, не согласился бы он сейчас с Александром Сергеевичем, заклинательно восклицавшим «не дай мне бог сойти с ума!..» – с каким бы облегчением он отдался бы сейчас полному безумию! А всего-то поменялись местами сон и явь… Бывало – и как часто бывало в последнее время! – приснится какой-нибудь кошмар, где он раздавлен, немощен, или опозорен, обесчещен, а то сама собственная смерть заявится – он, как правило задыхался под водой, в вонючей, смыкающейся над ним трясине, или был раздавлен упавшей бетонной плитой, сошедшей лавиной, неуправляемым грузовиком… смерть наступала, во сне хватало ума понять – всё! Всё-ё-ё! и даже давалась секундочка для последнего конвульсивного содрогания… но наступало пробуждение и – о, счастье! – он жив и может дышать.
А теперь – всё наоборот! Только что он – самый счастливый на свете мальчишка… не сон, не сон, таких явных снов не бывает, это была самая явная явь – он в походе на Лисичке, влюблённый, сильный, самый способный, не просто сын героя, он сам – победитель мировой чумы и от этого законно гордый и светлый, светящийся переполняющей его радостью жизни, которая вся впереди, бесконечная, яркая, счастливая… конечно явь, храпел же в на весь берег военрук, вплетались в его храп соловьи, и этот запах похода – дым, мокрый брезент палатки, и прекрасная Таня… и вдруг – обоссанный, облёванный, вонючий, изувеченный, разрываемый бесами старик, примеряющий место на том свете! Выпустите из кошмара! Зачем я проснулся в эту мерзкую явь? Это неправда, этого не могло случиться… Верните меня туда!.. Где… моя… жизнь… господи!?! Эта – не моя, я не жил её, что за уродливая сущность вселилась в моё тело? То есть что за уродливое тело пленило мою светлую детскую душу? За что? Каким судом? За какую идею? У-у-у-у-у!
Опасливо огляделся. «А может быть всё-таки сон?» Теперь никто не мешал хоть как-то сосредоточиться: знакомый-незнакомый Валерка уплыл с кем-то на лодке, красномордый лежал неподалёку в мокрой от росы траве, спал.
Глобальный вопрос – кто он? – уступил место локальному – где он, и как сюда попал? Появился в памяти какой-то давнишний день, за которым не было последующих, поэтому можно бы посчитать его вчерашним, если б не странная сияющая лакуна между ним и теперешним часом. Бог с ней, с лакуной… Вчера, ну, в тот, последний день они ехали в автобусе в колхоз… перед этим были у Французской горки… ещё раньше Женька вызволил его из гаражного плена, подлечил. До этого была тьма, а после автобуса… после автобуса тоже сначала тьма, а потом… потом тепло и светло. Долго… это была не одна ночь, это продолжалось, длилось, и оно было настоящее! Настоящее настоящее, а это…
Он посмотрел на свои руки, не удержался и опять застонал, потом заплакал, причитая не по-мужски: «Выпусти, выпусти, верни меня назад, в настоящее, туда, туда, умоляю, пожалуйста, выпусти-и-и-и!»
Весёлые поминки
Разделяя с верующими все печальные и радостные события земной жизни, Св. Церковь проникновенно-торжественно провожает своих чад в загробную жизнь.
Из брошюры «Первые шаги в Православном храме
Ведь чудо – веры лучшее дитя
Гёте, «Фауст»
Семён проснулся от шума – с пришедшего на эту сторону парома (после ночной суматохи это был первый рейс) сгрузились и одна за другой проревели мимо Семёна несколько грузовиков и милицейских машин – и сразу же вспомнился Орликов. Не приснилось!..
Подрулил к бараку, где расквартировали НИИП. ПАЗик стоял у крыльца, значит, на завтрак ещё не уехали. Крыльцо было облёвано и засыпано окурками.
«Ух, блевопитцы… – выругался Семён, – молодёжь! Такие все трезвенькие… а со стакана бормоты крыльцо испачкали. Тяжелая у вас будет жизнь…».
Известно, что самыми невозвратными и идейными пьяницами, становятся ищущие трезвенники-ботаники, по идейным же соображениям не употреблявшие – или мало, вот так, стакан портвейна и блевать, до сорока лет лет. Искавшие и ни черта не нашедшие к этому зрелому возрасту, они вдруг обнаружат отсвет, всего лишь малый блик этого искомого на дне стакана и уже никогда не выпустят его из рук. Вдруг понимают, что «ин вина веритас» не просто фраза…
Бедный Тимофеич!.. Мёртвому Орликову всё равно, а Тимофеичу… как ему сказать? Два раза входил и выходил из барака. Как?
Но начальник сам задачу облегчил. Увидев в окно мнущегося перед крыльцом Семёна, он подумал, что речной десант уже прибыл для посадочных работ, хотя завтракать со всеми не собирались, и, довольный такой неожиданной дисциплинированностью, в окно бодренько спросил:
– Ну, и как там наш Орёл? Жив?
Семёну и осталось-то сказать правду:
– Нет.
– Что, плохо бедолаге?
– Почему? Ему уже хорошо… а там кто знает.
– Но он хоть с вами?
– Пока с нами, без вас труп не трогали. Поехали, я на мотоцикле.
– К-куда?
– На косу… а там решим… решите, что с ним делать. В милицию… или позвонить, куда положено, в партком, директору… Я не знаю, что сначала… может, жене?
Выскочил на крыльцо, вляпался, простонал брезгливейше и только потом переспросил:
– Ты что такое говоришь?
– Что есть. Умер Орликов.
У Тимофеича, секунду назад думавшего, что облеванное крыльцо – самая большая его теперешняя проблема, на лысой голове зашевелились четверть века не растущие волосы, – ты что говоришь? Что с Орлом?
– Не знаем. Спал себе в палатке, вечером тронули – уже холодный.
Культурнейший человек простонал нецензурно, отшатнулся от Семёна и (в наказание?) опять наступил в блевотину.
– О-о… Что ж столько проблем из-за этой капусты!
– Одного семейства с горчицей, поэтому, наверное… Поехали, а?
Тимофеич покорно кивнул, спустился с крыльца, долго елозил подошвами по траве, не столько вытирая, сколько ожидая от Семёна признания в розыгрыше, не дождался и, раб галерный, пошёл к мотоциклу.
По дороге Семён гадал, что там на косе? Точно – не спят. Но и рыбу не ловят. Сидят, наверное, очумелые, вокруг костра. Ждут. А чего ждут? Он же не сказал, что Тимофеича привезёт… Или в поле подались? Оставили кого-то дежурным… Да какое поле – труп в палатке! Похмелились, вторую – помянули, третью для счёта – и горе не беда. Нет, нет… а-а… могли уже сами его в морг… или в милицию. О-о, вот, что самое вероятное: милиция уже там – вот куда две ментовские тачки промчались! – и следаки, и уже протоколы пишут, и его недобрым словом вспоминают – свалил…
Всяко плохо, да и как могло быть иначе?
Тимофеич же в сотый раз ругал себя за слабину: согласился, на всё согласился – и поехать в этот чёртов колхоз, да ещё старшим… оно ему надо было? Представлял себе букет наступающих проблем и уже задыхался от его тошнотворного аромата. Донаблюдался, наблюдатель…
Не сбавляя скорости, как Габдрахман Кадыров по льду, съехал Семён по непросохшей ещё глине на берег.
Гульба была в самом разгаре.
– Весёлые у вас поминки, – начал было Тимофеич, но, увидев в центре праздника косматую гриву Орликова, осёкся и с жалкой грустью посмотрел на Семёна – дурацкие шутки! Захотели пригласить к себе на косу – к чему такой спектакль? Но Семен был в ещё большей прострации, что там вчерашняя Ахтиарская бухта!..
«Вот она, команда!.. – с некоторой брезгливостью и одновременно насмешкой над своими фантазиями насчёт ребят вздохнул Тимофеич, – пьянь, она везде пьянь… Африка, Поручик, напридумывали, тьфу! Право слово – идиоты. Восемь утра, боже мой, восемь утра, а уже ни одного трезвого лица, ну, не понимаю!.. Как им самим-то не противно, и какие у всех гадкие рожи…»
Николаич уже вёл его под руку к столу, Жданов, Виночерпий отмеривал очередные бульки, сияющий, как самовар, Капитан в обнимку с Поручиком не в лад пели «Связанные одной цепью…», Николаич пытался им дирижировать, от реки, бросив удочку, бежал Аркадий: «И я! И мне!», и только Орёл вёл себя странно – от каждого возгласа расходившихся пьяниц, как от ударов ногами по почкам, он содрогался и, не поднимая головы, всё съеживался и съёживался. «Неужели до такой степени надрался?»
Не участвовал в общем веселье Африка. Обняв гитару, он сидел чуть поодаль от шумной суматохи третьего круга похмелья, и на его лице была блаженная улыбка, глаза внутрь… так улыбаются старики, когда вдруг вспомнят счастливую минуту юности, вспомнят без грусти о невозвратном, наоборот – с радостью, что она была, была не с кем-то, а с ним, с ним!..
– Штрафную Тимофеичу, – крикнул Николаич
– Штрафную, штрафную! – подхватили все.
Кружку Тимофеич взял как-то автоматически, пить, конечно, не собираясь.
– И что за праздник? – начальственная интонация едкой строгости у него никогда не выходила, не вышла и сейчас.
– Праздник, праздник, – призывно чокался с ним Николаич, – долго объяснять, так поверь, Тимофеич – праздник.
– А это кто у вас?
– Вася… отдыхает, ему хорошо.
В то, что брошенному в траву человеку хорошо, Тимофеич усомнился – на вдохе тот прерывисто всхрапывал, а на выдохе страдательно вымучивал какое-то непонятное слово: «эльбя-я-яткс… хр… хр-р-р… эльбя-я-яткс…»
– Через полчаса надо быть в поле, а вы тут!..
– Да будем!
– Будем, будем! – загалдели хором, то ли подтверждая намерение быть в поле, то ли привычно выкликая стандартный бестостовый тост: «будем!» и стукались, стукались точёными стаканчиками и кружками.
И Тимофеич… выпил.
Семён, трезвый, так и стоял около «Урала», пытался осмыслить случившееся. Не получалось. «Или тоже треснуть? Ладно, отвезу Тимофеича, а на поле уже и тресну, кто-то должен быть и посветлей, вчера эвон как надрались, мертвецкого от мёртвого не отличили», – настроение было паршивое: для Тимофеича он паникёр и обманщик, для команды вообще белая ворона. Слазил в палатку, вынес пачку скреплённых листов, испещрённых столбиками слов, сунул в нагрудный карман рубашки маленький блокнотик с огрызком карандаша.
– Ты чего не в обойме? – спросил придурковато улыбающегося Африку. Тот посмотрел на Семёна блуждающим взглядом, и показал пальцем на скрюченного Орликова.
– Живой.
– Вчера спьяну не разглядели, бывает.
Африка покачал головой.
– Не-ет, не-ет, Сеня!.. Разглядели. Ещё как разглядели. Ты же сам в палатку со мной лазил, пульс щупал, зеркальце к носу приставлял, в зрачок фонарём светил.
– И что ты хочешь сказать?
Африка в ответ только снисходительно, но не без хитрецы, улыбнулся, как долго не выигрывающий покерщик при открытии флэш-рояля против королевского стрита картёжного везунчика.
– Сами были чуть живые, что могли рассмотреть? Да ещё в полутьме, – отмахивался Семён. Мысль о воскресении пришла и ему, но неприятно было, что приватизировать её собрался этот полупопик. Как будто если Орликов воскрес, то все теперь должны Африке по рублю. – В коме он был.
– И остыл в коме, и коченеть начал, да?
– Случается и такое.
– Правильно! Правильно – случается! Потому и пасха.
– Сравнил…
– Перед Отцом все равны, – быстро сообразил ответить Африка, – воскрес!
– Нет, здесь другое.
– Да хоть другое, хоть третье, хоть пятое-десятое. Был человек мёртв, стал жив. Что тут другого?
– Понять физику процесса…
– Какую вам, физикам, физику? Нет у Господа никакой физики, химии и математики, эти мыши живут только в ваших перезрелых тухлых тыквах, у Господа всё просто.
– Было бы просто…
– Не в том смысле просто, что легко, а в том смысле что просто.
– Вот и понять, как это просто происходит.
– Не надо ничего понимать! Надо верить, а не понимать.
Подошёл Аркадий.
– Вы тоже заметили? – спросил заговорщицки.
– Что?
– Ну… рожу его? Вчера же он её расцарапал о камни, и синячище был под левым глазом, а теперь нет ни ссадинки.
Африка счёл это подтверждением свой версии, воздел руки.
– Воскресение и – преображение.
– Как ты и сравниваешь: Христос и … Орликов.
– Христа, выходит, всё-таки признаёшь?
– Отстань.
– А как же «Первые шаги?..» – с укором спросил Африка.
– Вторые пора уже делать, третьи, пятые, а у нас всё первые, – опять отмахнулся Семён.
– Нет, первые – они и вторые, и третьи, и пятые.
Странно разошлись после той брошюры духовные пути Семёна и Африки. Семён, вдохновитель и соавтор (хоть на книжице «Первые шаги в православном храме» и значилось «Составитель дьякон Владимир Сидоров», и это было так, и дьякон Владимир, тоже скромняга, нашёл вариант против гордества – «составитель», идея и план книжечки были семёновы) к религиозной теме вдруг охладел, а Африка, всего-то и делавший, что сопровождал иногда друга в Церковь Рождества Богородицы в Старое Симоново, где в тесной комнатке за трапезной Семён и дьякон Владимир бесконечно черкали и правили два десятка листков, наоборот – проникся. Может быть, если бы не получил гитарой по лбу, оставался бы ждать на Автозаводской и пить пиво, но после «гитарного гласа» тянуло в церковь, тем более, что таинственный дьякон, которого Семёну порекомендовали, как чуть ли не единственного, кто мог бы взяться за осуществление его идеи, оказался Африке знаком: отец Владимир был в недавнем мирском прошлом бард и они несколько раз встречались на слётах, концертах и каких-то необязательных спевках. Был бард – стал поп. У Африки тоже не срослось с КСП, этим большим ноющим костром, залитого в конце концов обильными жидкими сладкими соплями. Всему своё время. От их песенного куста «Французская горка», входившего в большой вдовинский (Валерка Вдовин, начальник) куст «Новослободский», только они с Семёном и остались; Валерка Белоусов ушёл в геронтологический комсомол, Юрка Лаптев – в депутаты и рыбалку, Люда Корчагина… а куда делась Корчагина?
А в то время Африка как раз переживал кульминацию своего религиозного детектива и никак не мог посчитать случайным такое совпадение – увязался за Семёном уже на второй его визит к отцу Владимиру.
С дьяконом они вместе вспомнили добрый десяток концертов и слётов КСП, особенно 25-й юбилейный, где, правда, столкнуться было мудрено, не очень к этому располагала трёхдневная броуниада пяти тысяч не совсем трезвых бардов, тем более, что Африка даже в кустовых концертах не участвовал – на Нерли, берег которой оккупировали песенники, был сумасшедший клёв щурят на лягушонка, и они с бардом-рыбаком Юркой Лаптевым все дневные спевки прорыбачили, а ночные пьянки слепы. Но гигантскую инсталляцию «СЛАВА КСП» на зелёном склоне из тысяч пустых водочных бутылок помнили оба.
Но если Африка вспоминал радостно, размахивая руками и даже напевая что-то из особенно популярного в прошлые годы (Суханова, Берковского), то отец Владимир – грустно, так взрослые иногда вспоминают не совсем достойные проказы молодости: внешне улыбаясь, но внутренне поёживаясь.
Сначала Африке не давалась произошедшая с бардом перемена: Владимир был старше всего года на три, так ведь у костра все ровесники, правда ровный густой баритон и какие-то особенно печальные слова его собственных песен выдавали и раньше если не другую породу, то другую дорогу, но сигарета в бороде опять всё нивелировала… теперь же он казался старше чуть ли не вдвое – не повзрослел, это просто был другой человек, и все же непонятно было, из чего этот другой человек вырос, как непонятен был и сам этот другой, выросший Владимир. Сначала думал, что дело в рясе, но однажды они застали Владимира в мирской одежде – эффект был только сильнее. «Курить бросил? Африка и сам бросил, что ж… Смеяться перестал!.. да, отличие, но мало… Борода поседела? Взгляд! Взгляд стал… умнее? глубже? грустнее? А может просто достали болезни – сам никогда не жаловался, но было известно, что со здоровьем у него беда, сердце, врождённый ревматизм, сейчас вот на группе… а двоих детей ещё к старшему сыну родил, чудак… может, устал, вот и кажется старым? Нет, у больных и уставших в глазах боль и усталость, тоска, а у этого… что? Свет? Свет! Всё так и – не так. Появилось в бывшем барде что-то недоступное для понимания «с лёта», но то, что оно было, новое, большое, настоящее – несомненно. Именно большое настоящее… Скажем, появится у прощелыги всего-то лишняя сотня – полетели понты в разные стороны, а у кого богатство большое настоящее, тот бормоту ящиками на показ покупать не будет.
В один из следующих приездов, пока Семён разбирал свои бумажки, Женька поведал отцу Владимиру о своем странном «общении» с богом. Не всё, конечно, рассказал, а начало, когда гитарой по голове, и оживление через несколько часов Голосом, нет – Гласом, и уже конец, когда тот же голос позвал в церковь, излечившую от наваждения… а про само наваждение не стал.
Ждал от дьякона подтверждения, чуть ли не поздравления с откровением. Ошибся.
– Забавный случай, – трогая длинными бледными пальцами шрам на женькином лбу, только и сказал дьякон.
– Но это… – Женька закатил глаза к потолку, – Он?
– Всё – Он. Даже если не Он, всё равно – Он.
– Как это?
– Пути господни неисповедимы. Услышать голос – большое дело, только и этого большого ой как мало.
Потом просил разъяснить Семёна: «Чего мало?..»
– Одного раза мало, надо тебе ещё раз по башке заехать, не к Богу придёшь, так хоть поумнеешь.