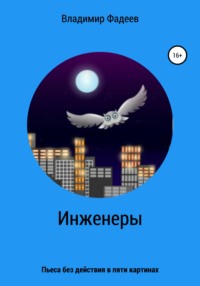Полная версия
Возвращение Орла
И потом на целый час-вечность – тихо…
Вася-мордвин приплёлся на косу раненько, солнце ещё не пожелтело, а спасаться после вчерашней халявы уже требовалось. Как дошёл вчера до дома – не помнил, да не до дома, до сарая, и хорошо, что не до дома, был бы сейчас вой: жена русская, порядка не знает, похмелиться не даст, один путь на косу. Тем более, что не так давно протрещал мотоцикл, по звуку – «урал», с которого вчера и началось, встрепенулся. Не тот мордве друг, кто вечером наливает, а тот… Кое-как доплелся. На спуске по мокрой глине заскользила нога, изувачкался. Ещё эта курица на ремне… как упал на неё в сарае, так всю ночь с курицей под боком и пролежал, вдавила бочину, аж рёбра болят, хотел отрезать – ножа не нашёл, отвязать не слушались пальцы. Мешалась, зараза.
«…А мордовская жена ещё бы и накостыляла…»
Мотоцикла не было, правильно услышал. Костёр безнадёжно залит, и кружки, и точёные стакашки на кабельной катушке-столе тоже полны воды, если и оставалось в них какая толика, то и её разбавило грозой до беспользы. И никакой бутылки, ни фляжки, не то, что вчера – пей не хочу… О-о-х-х! Оставалось ждать, кто-нибудь ещё да вылезет сейчас на опохмел, не железные же они…
Богатыри храпели, надрывались соловьи, лещи плескались, примеряясь к скорому нересту, шебуршила по отмели рыбья мелкота… Тошно-то как, мама!..
Ещё раз перенюхал кружки, из самой духовитой половину выпил, только хуже стало, но допил до конца и тут же горько проблевался.
– Эльбятькс!
Подышав немного, взял со стола нож, отрезал, наконец, курицу. Прохладный речной бриз шевелил мелкие пёрышки на рябой шее. «Живая, что ли? – испуганно подумал Вася, – не может такого быть…», – двумя пальцами поднял птичью голову за гребешок. С дерева каркнула утренняя ворона, Вася испуганно отдёрнул руку. «Фу ты… похмелье, что ж, всего страшно…».
Брезгливо спихнул курицу под стол-катушку, и тут услышал, как из дальней, брезентовой палатки, зашнурованной петельками, кто-то пытался выбраться.
«Ну вот!» – Вася сразу вдохновился, но попытки несчастного прекратились, а к командному храпу прибавился какой-то стон-вой, можно было бы решить, что скулит собака, если б скулёж не рвался короткими хриплыми человечьими вздохами.
«Ещё хуже, чем мне, – сочувственно подумал мордвин, – ну, лезь, лезь, родной, вместе и спасёмся…»
Возня повторилась – теперь по брезенту с той стороны несильно били руками – и скулёж перешёл в рыдания с неразборчивыми причитаниями. Вася пошёл на выручку, распустил мокрые петельки и на пару шагов отступил. Никто не выходил, Васе стало не по себе. Заглянул – в заднюю стенку вжался странный лохматый изодранный и по пояс мокрый дядька с обезумевшими глазами, вчера он такого не заметил, хотя кого он вчера заметил?
«Уй, бля!..»
А вслух, не иначе, как с перепугу:
– Шамбрат – за год, бывает, по-мокшански ни слова, а тут за утро целых два, как они на берегу вспоминаются?
– Плох-хо, – ответили из палатки – Орлу в мокшанском приветствии послышался вопрос: «как, брат?»
– Ну, так вылезай, поправимся.
– К-куда?
– Сюда, куда ж ещё, на свет божий, рвался ведь!
Орёл мелко затряс головой и сильнее вжался в угол.
– Ну, как хочешь, – вздохнул Вася и поплёлся назад к кострищу.
– Стой, п-погоди… ты кто?
– Я Вася.
– А я?
– У-у-у, ка-ак тебя…
– Вася, в-вытащи меня отсюда…
Странное утро
…существует неизвестный процесс, который пересекает пространство-время и упорядочивает события.
Карл Юнг
Ока ещё с вечера повела себя как в тихом роддоме роженица, которой приступило. Часа за два до грозы, в изумительной чарующей тишине, когда широкой её гладью любовалась всякая живая тварь – и с берега, и с воздуха, и с воды, и из-под воды, – вдруг возникали на ней, то тут, то там рябые пятна, мигрировавшие вниз и вверх по течению, то к левому, то к правому берегу, а то вообще выписывающие кренделя, какие под силу бы ураганным порывам, но на верхушках ив и лист не дрожал. Кое-где даже вспенивались буруны, мчались метров сто-двести и так же неожиданно исчезали. По всему было понятно, что ветер тут ни при чём, как и всё, что было вне реки – река, плавная равнинная тихоня сама, изнутри себя вбрасывала в мир невесть откуда взявшуюся прыть и силу, словно накопила её когда-то в непамятные нынешним обитателям времена, да вот пришло время освобождаться от бремени. С дединовского парома посреди реки скатились в воду шесть легковушек – паромщик клялся, что виной неожиданный продольный крен, как будто кто-то под другой край подставил спину. В сумерках одна баржа с песком, не справившись с неожиданным боковым течением, зашла за бакен и как утюг прокатилась по запоздалым лещатникам – три лодки до сих пор пустыми болтаются на якорях, а другая баржа, порожняя, чтобы не погубить рыбаков с белой стороны, стала их оплывать и, тоже не рассчитав попутной стремнинной тяги, врезалась в берег, аккурат в насосную станцию, теперь там на двенадцати гектарах будет сохнуть без полива только что высаженная капуста. В Малеевском, в Прорве, с полоскательных мостков пономарёвская вдова, бывшая учительница Нина Ивановна уцепила проплывавшее мимо удилище и выволокла на берег леща весом в двадцать один килограмм – с отделения звонили в Коломну, и теперь из Москвы ждали ихтиологов, для подтверждения рекорда. А во Фруктовом, под плотиной, местные рыбаки вытащили в одной сети центнеров шесть стерляди, ну, этому, конечно, уже никто не поверил, может шесть штук? – хотя утром к коломенскому рыбнадзору экстренно выслали подмогу – не одному ведь местному инспектору живиться на таком вопиющем браконьерстве. И с утра же зажужжал вдоль Оки вертолёт, а по берегу стали шнырять милицейские и даже военные машины – ну, это, должно быть, совсем по другому поводу…
Но вот что не подвергнуть сомнению: жирная, в столовую ложку длиной уклейка клевала куда ни забрось удочку – и в омутках, и на мели, и на хлеб, и на манку варёную, и на болтушку, и на что только ни забрось. Ещё выползли на берег раки и шуршали в траве, как ужи и ежи.
Река как будто «вспомнила» себя молодой, трёхтысячелетней, а может и стотысячелетней давности, со всем своим изобилием и чистотой. Да, да, и старики рассказывали, что в некоторые годы случались деньки, когда река вдруг преображалась и становилась какой-то взбалмошной и в то же время – сказочной … Да только где они, эти старики? Какие-такие старики? Вон, старик, но он разве что-нибудь расскажет?
А по низкому берегу за одну ночь выросла почти в локоть душистейшая мята – заросли!!!
Первым из команды морфей отпустил Аркадия. Не потому, что он меньше других пил – кто считал? – просто Аркадий был единственным из всей команды настоящим рыбаком, и, как настоящий рыбак, просто не умел просыпать утреннюю зорьку, святое рыбацкое время. Предки Аркадия, включая мать с погибшим на производстве отцом, родом были из Спас-Клепиков, столицы благословенной Мещеры, края речек, озёр и лесов, края, где дети удочку начинают держать раньше ложки, где с молоком матери попадает в младенческую кровь благоговение перед тайной и чудом леса и воды, двух единоутробных русских стихий, непохожих друг на друга двойняшек Земли-матери, разноликих – на взгляд чужака, пустынного или степного страдальца или кремневатого горца – близнецов, неразлучных ни во времени и ни в пространстве, питающих друг друга, помогающих и друг друга берегущих пуще себя самоё, и не потому даже, что знают: не будет леса – не будет и реки, не будет реки, не будет и леса (так простенько думают в общем благородные природолюбители), а потому, что у них, как у всех близнецов, как бы не были они не похожи внешне – одна на двоих душа, они – одно по сути, и всякой родящейся здесь божьей тварью, включая, конечно, и человека, это понимается так же легко, как на любом из тварных языков понимается слово «мама»… Семь первых лет Валерка (нынешний Аркадий) провёл в деревне в двух часах ходьбы от Клепиков, потом ещё десять лет каждое лето, хоть на месяц приезжал надышаться родиной. Были и любимые места рыбалки, но так заманчивы были лесные изгибы Пры-реки, что всегда казалось, что только бы суметь пробраться к потаённой, конечно, никому не ведомой излучине и уж там-то!.. Пешком, на велосипеде, потом на мопеде с младшим братом, потом уже с дядькой (вот уж был заядлый рыбачище!) на мотоцикле и с резиновой лодкой объездили всю округу, и все большие мещерские озёра – Великое, Ивановское. Шагару, и собственно Пру, Сокорево и Мартыново с Лебединым, но больше Валерке нравилось забираться в дебри к озёрам маленьким, как бы укутанным, упрятанным в лесах от всякого праздного человека, всего-то одна или две мало кому известные тропки вели к ним через сосновые буреломы и гари, они – мальчишеское сердечко не обманешь! – были ему рады, заждавшись, сразу поднимали на всплески приветствия своих хищных и не очень насельников, торопили: «Давай, давай, где там твои клепиковские червяки!», а от понимания, что на озере кроме них нет никого, рождалось странно волнующее чувство нераздельного владения этим местом… озеро оживало и превращалось в сказочной красоты женщину, каким-то чудом одновременно бывшую им самим, не ровесницу-девушку, а именно женщину, с дополнительным, как бы он сказал сейчас, измерением тайны и чуда, а само чувство – взаимным и …целомудреннейшим! Такими – и двадцать лет спустя – он помнил озеро Урцево, километров тридцать в дебри, где был потрясающий улов окуней (вот он, знак взаимности!), и с не меньшим трепетом – озеро Ютницу, воистину уютнейшее на всей живой земле место, с водой цвета позднего заката (как-то не приходило в голову тогда сравнение с кровью), отчего во время купания он виделся себе сквозь воду настоящим краснокожим индейцем, а щуки, попадавшиеся на дядькины жерлицы, были не светлозелёными, как в Пре, а бурыми. «Гарное озеро» – комментировал дядька-водяной этот феномен, а Валерка даже это понимал по-своему, как и много на свете – по-своему, и именно через эти речные и озёрные фантазии одушевления воды, стремления разгадать её простую и не разгадываемую сущность, вмещающую в себя целые живые миры с волшебными именами рыб. Иногда ему казалось, что он и сам был когда-то рыбой – так сильно влекла его часть пространства с другой стороны глади – иногда он мысленно превращался в амфибию и тогда безошибочно определял и место, где надо ловить, и будет или нет клёв. Впрочем, если клёва не предвиделось, то он себе не верил.
Мозг у настоящего рыбака так устроен, что за час до рассвета ему начинают сниться вещие (он-то в этом уверен!) сны, где правит бал госпожа рыбацкая удача. Река зовёт! Во сне всегда клюёт и почти никогда не ловится. Поплавок дрожит, ложится, тонет, ходит кругами, чуть не говорит человеческим голосом: вставай, вставай! иди на берег! подсекай!.. А не подсекается… и даже если подсёк, водишь, водишь, леска звенит… сошла! Аркадий уже сообразил, что спит, и сразу простой вариант: спуститься туда (не нырнуть!), посмотреть, что там за баловница. Так и сделал. Под водой было хорошо, только сначала, как всегда, боялся вздохнуть, терпел до последнего, но терпение кончилось – и… ничего страшного, дышалось лучше, чем на земле. Вот и его наживка, рядом вертится маленькая рыбка, то ли сеголетний пескарь, то ли вообще гуппёшка аквариумная, червяк больше, но рыбке до червяка и дела нет, она к нему: «Где ж ты, родной, ходишь, столько у нас дел!» – «Какие у нас с тобой дела?» – удивился Аркадий. «Как? – возмутилась рыбка, – а землю спасать? Я тут дёргаю, дёргаю, а он…». И тут он её узнал: это ж та самая сикилявка, которая к Ману в кувшин попросилась, стало стыдно. «Так делать-то что?» – «Ну, ты даёшь! Вылезай на берег, меня поймай, потом отпусти, там видно будет». – «А в кувшин? У нас, правда только фляга, да и та… не очень». «Какой кувшин? Лови, давай, быстрей!» Аркадий выбрался на берег, а поплавок возьми и замри, поймай теперь её… Осенило: сеть же забросить надо! Швырнул её прямо в вонючем мешке, мешок сначала поплыл, но через минуту – сеть была огружена хорошо – пошёл ко дну. Теперь пришлось нырять. Рыбка попалась, только другая, не пескарь и уж не индийская с рогом. «Чего тебе надо?» – спросила она голосом начальника, Орликова. Не недолго задумался Аркадий: «Слушай, ты четырёхкомфорочную плиту нам на кухню поставить можешь?» – «Это мне – тьфу! Отпускай!». «Эх, бля… – тут же огорчился спящий Аркадий, – дурак-то я дурак! Надо же было, что б она с долгами моими рассчиталась!» – и снова закинул вонючий мешок в реку. Нырнул, вытащил, рыбки не было, только протухшие мидии. Опять осенило: «Бредень ещё надо забросить!» Собрал в кучу разложенный на берегу бредень и кое-как столкнул его в воду и сразу вытащил: рыбка была уже в мотне. «Слушай, родная, у меня тут долгов скопилось, кварталку, понимаешь, не всегда получаю, а жене не скажешь – выбросит аппарат…» – «Ладно, отдам твои долги… – и помрачнела, – у тебя, что, других забот нет?» У Аркадия во сне забот больше не было. «Да я и не знаю…» – ответил он уклончиво. «А кто за тебя знать должен? Пушкин? Смотри, он сейчас уплывёт, и так ты ничего не узнаешь!» Сон ещё путался с явью, слышались звуки: чёлн по песку, вода о борт, о борт весло и весло о воду, пара недовольных возгласов от костра – не иначе Пушкин уплывал на челне, а под челном вода бурлила: лещёвые спины несчётным числом резали воду по всему видимому пространству, за бакеном стучали хвостами жерехи, как целая артель плотников; блестящим веером, словно салютом в честь речной рыбородицы, от каждого – из тысячи – всплеска разлеталась мелочь…
Совсем проснулся. Тело было деревянным, правая рука онемела. Когда выбрался из палатки, первым делом убедился, что челна не было. «Куда его, не похмелённого сукина сына, понесло? Скопытнуться ведь можно…» Какое-то время в голове варилась ассоциативная каша: «Не скопытнётся, он же живее всех живых… нет, он – «наше всё», а живее всех живых – это другой, тот труп … труп… «Ё-моё, Михал-то Васильевич!..» – вспомнил всё, даже коленки ослабли, сел на землю, где стоял…
От кострища к нему уже неровно, но быстро, шёл Вася.
– Это, Аркадий, будь хоть ты человеком, тащи, давай, баклагу… – и перевёл стрелки, – вон, одному вашему совсем плохо.
«Кому бы это? – спросил себя Аркадий, и сам же себе отвечал, – да кому угодно, водка не тётка…». Со спины не разглядел, голову бедолага опустил к коленям и, постанывая, широко качался взад-вперёд. Полез обратно в палатку, за своей заначкой. Поручик с Африкой мерно, без храпа, сопели, а вот Семёна не было! Выходило, что это он маялся на берегу.
Кто, кто, а уж Аркадий знал – здоровье и у его друга-хибакуси после двух ликвидаторских командировок ни в одно место. «Дочернобылился!.. Как его и похмелять-то теперь? Да и не в похмелье дело, стал бы он меня дожидаться…»
Они смотрели друг на друга, как два марсианина, встретившиеся на Венере. Один всё забыл, другой помнил, но не верил, что такое возможно. Немая сцена затягивалась, первым не выдержал Вася.
– А ну вас! – и налил себе в давно приготовленную кружку.
Потом что-то изменилось в лице Орликова.
– Валерка, – проговорил он еле слышно и был явно не рад узнаванию, наоборот, словно лишившийся последней надежды человек, бессильно заплакал.
Надо было что-то сказать, и Аркадий не нашёл ничего лучшего:
– Михал Васильич, как… там?
Орликов в ответ утробно заскулил, на четвереньках отполз к воде и там, у воды, уже завыл в голос. Река приняла вой на свои плечи и понесла его по синенькому утреннему дымку в обе стороны – и в Дедново, и в Коломну.
«Не умер, но тронулся…».
– Налей, что ты его мучаешь, – к Васе уже вернулся морковный цвет лица, можно было позаботиться и о ближнем.
Аркадий с кружкой присел рядом с начальником, тронул за трясущееся плечо.
– Выпей, Васильич, выпей, полегчает.
Увидев кружку, Орликов на мгновенье замер, опять как будто натужно что-то вспоминая, и, видимо вспомнив, завыл пуще прежнего.
Аркадий пожал плечами и выпил сам. Усадил Орликова за стол-ондулятор, нащупал под ногами что-то мягкое. «О! ряба! Надо бы её на солнышко, через пару дней свой опарыш будет», – и швырнул её в сторону молодого прибрежного ивняка. В полёте курица как будто махнула крыльями.
«Самому бы не тронуться, – подумал он и сразу вспомнил свой сон про рыбку, – эх, где ты, рыбка золотая, попросил бы за сумасшедшего!..»
Добрый человек с каждым стаканом добреет, злой – злеет. В самом алкоголе ничего нет ни доброго, ни злого, только способность раскачивать уже присущие человеку качества.
По второй Вася с Аркадием, оба добрые, выпили уже вместе. Орёл всё подвывал.
– Ямбар… Надо бы ему всё-таки это… симомс, тогда и в ум вернётся.
– Конечно, верное дело, да ты ж видел, как он?..
– Ну, пусть тогда помучается, а я выпью… можно?
– Добрый ты, Вася… пей, пей, – и снова повернулся к Орликову
– Тяжело, Валерка…– произнёс тот первые разумные слова.
– А как вы думали, Михаил Васильевич? Воскресать – не кнопки нажимать. Будете поправляться? Правильно – не пейте. Нельзя вам пить, Михаил Васильевич.
– К-кому можно…
– Всем, кроме тех, кому нельзя… – Аркадию быстро похорошело, хотелось рассуждать. – Пока мы на реке, надо бы вам заговор от пьянства сделать на речную рыбу. Бабушка соседу по деревне делала. Только нужная живая.
Жалкими, мутными глазами смотрел на него Орликов
– Пока она еще живая, влить в нее водки, поболтать и вылить обратно в стакан…
Орликов вздрогнул и съёжился, как перед ударом.
– …а рыбу приготовить, начитать на нее заговор: "Как эта рыба от водки задыхалась, так чтоб и ты при виде водки задыхался и век к ней не прикасался. Аминь". Потом рыбу съесть.
На словах «рыбу съесть» Орликова словно что-то дёрнуло изнутри, вмиг скрутило в эмбрионную запятую – свалился с ящика, опять неуклюже на четвереньках пополз к воде, и от начавшихся тут же рвотных конвульсий потекла изо рта тягучая зелёная желчь.
– Чем рыбу есть, – сочувственно сказал наблюдавший за экзекуцией Вася, – ты бы ему лучше этой рыбьей водки дал выпить.
– Нельзя. Бабушка говорила, что стакан с водкой обязательно отнести на безымянную могилу.
– Тогда не выйдет ничего. Есть он не может, безымянную могилу поди найди…
– Не силой же вливать! Попросит – нальём.
А у самого Аркадия самогоночка разбежалась по капиллярам, мир из чёрно-белого снова стал цветным и добрым, и чудо воскрешения Орликова казалось теперь таким обыденным делом – ну, воскрес, задышал… а сели б похмелился, то уже бы и сплясал
Разглядел вдалеке чёлн. Лёха уже, наверное, с уловом.
Пока ждал его, смотрел на стайки сеголеток у самой речной кромки, на их синхронные манёвры, размышлял, что никакой команды они друг другу не дают, никакое вещество не выделяют – у них просто на всех одна душа, она и рулит всеми сразу. И не просто рулит этими в стае, но ведь и теми, кто от стаи отбился и плывёт где-то далеко, и этот отщепенец точно так же сейчас повернул направо, даже если там камень или щучья пасть, а может это стая рванула без видимой причины в сторону, потому что в сторону от окунька рванул тот, отбившийся, но ещё связанный с остальными сеголетками общей душой? И это так понятно!.. Никакой тебе скорости света – когда одна душа всё делается одномгновенно.
А ведь и у людей, должно быть, есть общая душа. Близких родственников она держит крепко – недаром мать без всякого телефона знает, когда у него припадок… Дальних – послабже. Род, племя – под одним покрывалом, да и сам народ – потому он и народ, что всё-таки есть у него общая душа, не так она, конечно, рулит им, как этими сикилявками, но – рулит, держит в давно невидимых высях (или глубинах?) всех по своему компасу… потому и народ…
Где она? Какая? Что в ней за сила? Каким местом он к ней привязан… ведь привязан, чувствует же он холодящую дрожь по спине, когда вдруг вспомнил красную воду Ютницы… Может, она, душа, действует через землю – лес, озёра? Может, она, главные струи её, текут реками… Окой… все мещерские реки в неё впадают, Пра… «Ведь земля – это наша душа!» – вспомнил Высоцкого: как просто! Но не только земля, ещё и леса и обязательно – реки, это главное, от чего земля-душа жива, главное!!!
Вася, видя бесполезность своей добродетели, уже не предлагал Орликову – пил сам.
Причалил Лёха. Аркадий – к челну с детским любопытством: что там попалось?
– Я не проверял.
– Куда ж ты плавал?
– Да… – отмахнулся Лёха, а чтоб Аркадий не донимал, согласился взять его на сети.
– А… – сделал жест, понятный всем пьяницам мира – пальцем к горлу
– Всегда.
По ходу вдвоём подняли с колен и посадили на ящик Орликова, мученическая гримаса у того не исчезла, но дополнилась каким-то страшноватым спокойствием, Аркадию даже подумалось, что лучше бы он продолжал выть, не подарок тоже, но понятно по-человечески: из рая да снова в похмельную яму, завоешь.
Лёха смотрел на воскрешённого с жалостью. Юродивый реки ради, он за всю жизнь не прочитал ни одной книги, не написал ни одного письма, не посадил ни одного дерева, никого не родил, ничего, кроме челнов с дедом Сергеем, не построил, и отсутствие не то что перспектив в жизни, отсутствие самой жизни нисколько его не заботило. Он жил, казалось, как пескарь на перекате: что река принесёт, тому и рад. Он не рассуждал и не думал о родине, он был в ней, а она была рекой. На умников с тремя высшими образованиями, до хрипоты спорящих на берегу о смысле и правде, он взирал без зависти и без превосходства, он не понимал их, не понимал даже того, как это они, считающие себя умными, не понимают вещей самых простых – воды, ветра, рыбы, наконец. Он их жалел. Подневольные и неприкаянные, почти все они были несчастны, тёмные тени над их головами рассеивались только на полчаса, от первого полстакана до третьего, после третьего на место тёмных теней водкой выдавливались уже совсем чёрные нимбы из тоски, обид и забот, после чего всё их умное и правильное выходило грязным и глупым, но сами они этого уже не замечали.
С такой вот жалостью он смотрел сейчас на Орликова. Чёрный нимб лежал у того над головой, как сомбреро – как было не жалеть? Ожил, зажил, а что толку… Вон Вася- мордвин – протрезвеет и пойдёт своими делами заниматься: трактор, корова, куры… а этот куда? Аркадий не заметил, как на секунду сцепились взглядами речной лешак и вчерашний покойник, только последовавшую за этой сцепкой новую жутковатую ухмылку Орликова.
– Может, Васильич, всё-таки, того… – побулькал Аркадий фляжкой, но Орликов, дёрнувшись телом, опустил голову к коленям, видно было только, как вместе с желваками шевелятся его уши – тяжко.
А Лёха выпил. Выпил и, как обычно после стакана, отошёл к берегу, к самой кромке воды, лопотанье её было чистым и внятным – после стакана он неизменно представлялся себе родниковым ручьём, вырвавшимся из-под земли, ему, ручью, было радостно и легко, легко и счастливо от скорого свидания с рекой. Если предлагали, он выпивал и второй стакан, и третий – тогда ручей начинал петлять, прятаться в травах, блуждать по болотцам, но бега своего не останавливал ни на минуту. Сейчас до третьего не дошло – уж очень нетерпелив был городской рыбачок до возможного улов.
– Поплыли, поплыли… – торопил Аркадий, не столько не терпелось к рыбе, сколько сообщить о чуде.
Он уже столкнул чёлн с песка и, сидя верхом на корме, с почтительным уничижением звал казавшегося ему сейчас речным богом Лёху – так в детстве они упрашивали богоподобного же соседа, шофера грузовика, прокатить до перекрёстка… Речной бог пересадил Аркадия на нос, развернул чёлн, и за несколько гребков разогнал его до невероятной для гребного плавсредства скорости. Который раз Аркадий убеждался, что с веслом в руках – это совсем другой человек, или даже не человек: движения рук при неподвижном торсе были не настоящими, от таких полушевелений чёлн не должен был и с места тронутся, а он летел, и ещё это спокойно-счастливое выражение небритого лица, словно у них не проверка сетей, а миротворческая миссия на другую планету.
– А знаешь, что у нас вчера случилось? – заговорщицки спросил Аркадий, когда отплыли уже изрядно, с берега не услышать. – Орликов, ну, этот лохматый, что у костра, вчера-то умер!
– Бывает, – спокойно отозвался Лёха.
– Так сегодня – видел? – воскрес, ожил! – по-детски, взволнованным шепотом, выдавил из себя Аркадий, ожидая, что Лёха от его сообщения выронит весло.
– Бывает.
«Наверное, не понял, о чём я», – подумал Аркадий.
Когда Лёха не только грёб, но при этом вёл беседу, то есть был не с челном лишь, а и с пассажиром, скорость была быстрой, но объяснимой, а вот когда он устремлял взгляд поверх сидящего на носу Аркадия, неслышно включался какой-то форсаж, казалось, само пространство раздвигалось перед чёрной дубовой колодой, чёлн словно на воздушных крыльях приподнимался над поверхностью воды и … как будто вправду летел!
– Как это у тебя получается? Есть же законы…