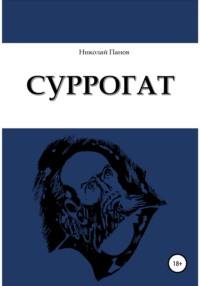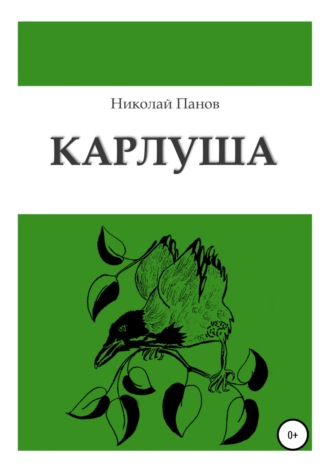
Полная версия
Карлуша
– Чего-то странное с кенкой, – так мы его дружно назвали, – как-то странно чирикает. Небось, опять напугали.
Когда все претензии были ко мне, я сознался в своем «эксперименте». Попало по первое число! Что же! Кенор не гуппи! Его трогать нельзя! Гуппи папин да мой, а кенор-то мамин! Разница-то ОГО КАКАЯ!!!
***Любили собираться у нас дома наши родственники, по праздникам. Утро седьмого ноября вообще святой день! Провожали технику на Красную Площадь! Уже вовсю поземка была, холодно!
– Что? Пойдем технику провожать? – скажет отец.
– Пойдем!
И вот, одевшись, отец говорит:
– Тогда быстрее собирайся! А то они быстро проедут. Пошли технику смотреть!
– УРРА! ТЕХНИКУ!!! – едва не кричу я и быстро, насколько это можно, собираюсь.
Наконец, мы выходим из дома. Проводив нашу величественную, наикрасивейшую военную технику на парад, возвращаемся домой с честью выполненного долга. Родина снова показала свою мощь и силу! И этого торжества хватит на весь год до следующего парада! А еще, пройдет немного времени, и придут гости. Все свои, все родные. Снова праздничный стол, я его называл «красивый стол», снова веселье и песни. И вот, в разгаре всего, внезапно слышат все сильный голос маленького певца, сидящего в своей клетке. Под общее веселье он тоже веселится, и тоже пытается высказать то, что наболело и в его маленьком, но благородном сердечке. Всё умолкает, умолкают людские речи, уступая место бессловестной, малюсенькой, но такой славной твари! Слушайте, людские сердца, слушайте песнь природы и хвалите Того, Кто ее создал.
Кенка сядет, бывало, мне на палец и вот клюет его! Ведь для него я отдельно, а вот мой палец отдельно. Причем, атакует его как в самой клетке, так и вылетев из нее. Я делаю попытку делать уроки, все, он тут как тут. Клетку-то особенно не закрывали. Закрывали тогда, когда форточка открыта, чтобы случайно не вылетел в нее. Потому, что тогда беда. Дом не найдет и погибнет. Так вот, сижу за письменным столом, а он сядет на макушку и начинает в волосах гнездо вить. А начинаешь ему руками мешать, так ругается и клюется. Вот так уроки и делаешь с гнездом на голове.
А летал плохо. Два круга по комнате и уже задохнулся. Загонять в клетку не надо было, он знал свое место. Его клетка – его домик. Как-то разрешили мне поставить аквариум, пустой, на подоконник, и положить туда морские камни. Что, собственно, я и сделал. Все равно как-то он пусто смотрелся без воды. И решил я налить в него воду. Налил, хорошо не до верху, а так, наполовину. И поставил я этот аквариум рядом с клеткой. В своей мечте лелеял завести какую-нибудь рыбку. Вот так сидел и глядел на пустой, но наполненный водой аквариум. Кенка скакал рядом в клетке, с жердочки на жердочку. Скакал, да все попискивал. Вошли бабушка да мать. О чем говорили не помню, только захотелось бабушке выпустить Кенку. Чего, мол, взаперти? Да пусть полетает. Ну и открыла клетку. Кенка сел на дверцу и вспорхнув, сделал пару кругов по комнате. Мама и бабушка о чем-то говорили, а Кенка приставал то к одной, то к другой. Я тоже отошел от подоконника в другой конец комнаты, а Кенка развеселился.
– Во, летает все, сейчас где-нибудь нагадит. – проворчала бабушка, глядя на разыгравшуюся птичку.
В это время Кенка подлетел к…но только не к своей клетке! Ему необходимо было разведать, а что это такое поставили рядом с ней? Поверхность налитой воды абсолютно гладкая. Не видя ее, а значит и не чуя опасности, кенор с ходу садится прямо в аквариум до половины наполненный водой! Что тут началось! Бедная птица! Бедный кенор! Нет, купаться он любил, но к водоплаванию был как-то явно не готов. Брызги, вылетевшие из аквариума, может и были похожи на малюсенький оживший гейзер, которому не терпелось показать свою силу. Я впервые слышал, как он, Кенка, кричал, прося помощи. Таким высоким и стройным я его тоже ни разу не видел. Распластав свои желтенькие, крылышки на поверхности воды, задрав голову с выпученными от страха глазами, он перебирал своими тонюсенькими ножками по каменистому дну аквариума. Моя реакция была молниеносной:
– Кенка! – заорал я, так как был напуган этой ситуацией не меньше его.
Через секунду Кенка в моих руках, перепуганный, но живой. Еще через секунду он уже в клетке, обсыхает и понемногу отходит от шока после вот такого незапланированного купания. А минуту спустя, аквариум покидает подоконник, теперь уже на долгое время.
***Кенка любил купаться. Особенно в яркие солнечные дни, да еще и когда бабушка уберет клетку. Ставила она ему баночку с широким горлом, наполненную теплой водой. И вот тут птица начинает хозяйничать. Сначала головой воду цепляет, привыкает как бы. Потом и весь в банке оказывается и начинает бултыхаться! Брызги во все стороны летят! Как накупается, так на жердочку сядет и давай отряхиваться от воды. Чистюля!
– А! Опять накупался! – только и вздыхает бабушка. – Ведь только поменяла ему все! А он опять накупался!
Долгим был жизненный путь Кенки. Когда состарился, то летать не очень-то любил. Но, как и обычно, как спать, так все щурится, а потом сунет голову под крыло, подожмет одну лапку и превращается в пушистый шарик с хвостиком. Под конец жизни когти отрасли у него и завились, мешая старту, так как цеплялись за жердочку. А подстричь их боялись. Вдруг что не так будет. Так и доживал наш Кенка свои дни земного странствия.
– Старость не в радость, – проговорила как-то бабушка, глядя на него. И в этой ее реплике послышалась нота сравнения кенора с человеком. Она это как будто человеку, равному себе сказала. И верно ведь. Только она и ухаживала за ним, с ним так и попрощалась. Незадолго до смерти Кенка уже не купался, а только сидел на жердочке, тяжело дыша и что-то перебирая своим крохотным клювиком. Он сделался взъерошенным, перья уже не лежали один к одному. А потом и вообще обнаружили его сидящим на дне клетки, что не свойственно птицам. Бабушка даже прослезилась, глядя на его страдания. Она-то понимала, как ему тяжело, ведь она сама – бабушка.
– Бабушка, а ты чего плачешь? – спросил я, глядя на нее.
– То и плачу, что ты еще ничего не понимаешь. – ответила она – Ну все, давай, давай, иди от сюда.
Только теперь, спустя много лет я понял, что бабушка увела меня от умирающего от старости Кенки. Мал я был еще, все забудется. И в этот вечер, как сквозь сон услышал я тоненький вопль, исшедший из крохотного тельца, вопль прощания хоть и с земной, но жизнью. Утром следующего дня клетка Кенки была пуста, и вся покрыта небольшим куском белой чистой ткани.
Хомка

Бедная моя бабушка! Сколько на ее плечи взваливалось всяких забот. То, понимаешь, то, то, понимаешь, это. А тут еще хомяка приволокли!
Хомка, самый что ни на есть обыкновенный, только привыкший к рукам человека забавный хомячок. Была богата «Птичка» всякой всячиной, того, что касалось живого мира. Даже камни и мореные коряги выглядели на ней живописно, как живые. На то она и была – «Птичка». Я был тогда еще совсем ребенком, когда не мог просто так пройти мимо прилавков с грызунами. В основном беленькие мышки и хомячки. Нравилась их временная клетка, деревянная, маленькая и компактная. Мышки были уж больно трогательными. Они постоянно что-то нюхали, перебирали лапками, дрожали. Дрожали они постоянно, но совсем не от холода. Такая уж у них физиология. Долго я выклянчивал у родителей купить мне такую мышку. Бабушка была как всегда права:
– Да, мышку тебе! А ухаживать кто за ней будет? Ты, что ли?
– Я! – сам как мышка пищу в ответ бабушке.
– Да, ты, – говорила бабушка, – а вот поглядим. Он будет ухаживать. А то я не знаю. Опять бабушка будет. А вонь-то от нее какая! Знаешь?
– Знаю, – пищал я, – я сам буду ухаживать…
В ответ бабушка только рукой махала.
– Мышка мышью, – произнесла мать, – может быть что-нибудь посерьезнее?
– Вон, свинку морскую, – сказал отец, вроде как в шутку.
– Этого еще не хватало…– вздыхала бабушка.
– А что, – продолжал отец, – от нее запаха нет.
– Ну уж, нет! – ругалась бабушка, – И куда ее?
– А что, куда-куда, вон, заведем! Свинку-то морскую! – улыбался отец, глядя на бабушку.
Коли шли такие разговоры, на ноте юмора, значит скоро жди питомца! И я с удовольствием поддерживал решение кого-нибудь завести.
А у нас была книга, детская, «Приключения Хомы». Хомяк да суслик, два неразлучных друга, жили-не тужили, да рассказывали нам о своих приключениях. Нам всем полюбилась эта книга. Мать думала-думала, да и говорит:
– А давайте хомяка заведем! Он интересный. Так и будем звать – Хомкой.
– Это как из книжки? – обрадовался я.
– Ну да, его самого! – ответила мать.
– Точно! – воскликнул я. – Хомку!
Бабушка только вздохнула:
– Вот сами ухаживать и будете.
– Ладно, бабулечка, поухаживаем! – вновь пискнул я.
Так у нас оказался хомяк, а на бабушкины плечи легла еще одна забота. С тех пор много лет прошло, не знаю где мы его купили. То ли в зоомагазине, то ли на любимой «Птичке». Но факт заключался в том, что при выборе хомяка присутствовала даже мать. Хомячков было несколько. Я не знал какого выбрать. Все красивые, симпатичные. Мама смотрела, смотрела, видит, что я растерялся, да и сказала:
– Давай возьмем вот этого. Смотри, какой он рыженький, красивый, совсем как из сказки.
Я кивнул в знак согласия. Так хомячок оказался у нас. Когда принесли его домой, бабушка подготовила для него большую стеклянную банку, а дно застелила ватой. Маленькое, рыженькое, дрожащее существо, постоянно чистящее себя, сидело в моих ладошках. Хомка постоянно принюхивался, медленно ползая по ладони.
– Ну, что? Давай, в банку его сажай. – проговорила бабушка. – Ему тоже отдых нужен.
Очутившись в банке, на мягкой вате, Хомка поползал по ней, а затем вдруг начал набивать ее за щеки! Набивал до тех пор, пока щеки не стали едва не с него самого ростом. Затем скрылся под вату и там, на дне банки, принялся вытаскивать вату из щек обратно и делать из нее домик! Сам, будучи коренным вегетарианцем, Хомка поглощал сухие геркулесовые хлопья, овощи, кроме помидор и огурцов. Насыпешь ему геркулеса, так он сначала щеки им набьет, а уж съест или нет – это вопрос другого характера. Но ел! Усядется на задние лапки, передними держит кусочек морковки, и уминает «за обе щеки». Он был совершенно ручной. Вынешь его из банки, возьмешь в руки, он и не убегает, и не кусается. Побегать его отпускали по комнате. Так он пробежит под кроватью, под тумбочкой, под шкафом у самого плинтуса и прямо в руки! А как побежит, так только и кричали ему:
– Хомка, Хомка! Быстрее!
Однажды напала на меня икота. Измучила она меня. Все утро, весь день. У меня аж слезы на глазах от нее. Что делать? И тут мать вспомнила, что хорошее средство от икоты – это испуг. Думала она, думала, как меня испугать и придумала. Подходит ко мне, да и говорит:
– Слыш-ка, Хомка-то подыхает…
Есть у человека один жизненный порок – наивность. Ну веришь на слово, веришь людям и только потом понимаешь, что тебя обманули. Нельзя быть наивным, нехорошо это. Да и прабабушка все говорила – «Простота – она хужее воровства будет» Я бы, наверное, несколько поправил бы – «Хрен не слаще редьки». Но мать-то из-за добрых побуждений сделала это. Я так и ахнул! Рванул с воплем к банке с хомяком:
– Хомка! Хомочка! Миленький!
Гляжу – ничего! Сидит хомяк, дело свое делает. А я уж его, пока он в банке сидел, со всех сторон осмотрел, да вроде ничего! Жив! Счастью моему не было конца! Мать рядом. Стоит, смотрит на меня. Спрашивает, ну как, мол, все прошло? «Что прошло? Чего прошло?» – думаю я.
– Мам! Да все хорошо! Живой Хомка! – а у самого немного руки трясутся.
– Икота прошла? – опять спрашивает мать.
– Ик! – ответил я.– А чего икота-то?
Мать вздохнула. Нда-с, эксперимент не удался, а вот легкий стресс я заработал. Впрочем, икота вскоре прошла, а потом и забылась, а вот этот случай о Хоме и наивности остался на всю жизнь.
Как-то раз смотрели мы телевизор. По-моему фильм-сказку. Ну решил я взять Хомку к себе на колени и с ним смотреть кино. Смотрел я его, смотрел, а Хомку просто накрыл ладошками. Ему-то все равно, что показывают, телевизор все равно не смотрит, а мне с ним веселее. Ну вот сидим мы с ним так вот, а он все чего-то шебуршит, да шебуршит. Немного щекотит. Да и ладно! Закончился фильм. Я ладони-то разжал и…вижу сидит довольный Хома, а у меня на тренировочных штанах огромная дыра! За то его щеки полны лоскутами.
– Ай! – всплеснула бабушка руками – А? Это ж надо так! Да как он тебе ничего не отгрыз! Это ж надо!
У меня самого поначалу испуг был, потом удивление с ярким выражением глаз, а потом смех до слез!
Тоже долгую жизнь прожил Хомка, да во многом благодаря моей бабушке. Кто как не она за ним ухаживала, почти как за Кенкой.
Прабабушка

Кто знает вкус деревни – тому дача не нужна. Невыносимо скучно делается на даче. Льнет душа к простой деревянной избе, да печке-матушке. Жизнью дышат такие избы. Именно изба, а не дом! В далеком детстве приезжал я в деревню к своей прабабушке Акилине, а по-деревенски просто Акулина. Золото она была, а не просто человек! Красота земли русской! Крестьянка, хоть и неграмотная, но с наидобрейшей душой. Сидит, бывало, у окна избы, ждет меня, совсем еще маленького вместе с родителями. А как увидит, так не просто заулыбается, а радость блеснет в каждой ее морщинке. Как тут не вспомнить рассказ «Волшебное слово». Только вот она и без всяких волшебных слов была доброй и замечательной. Ну, разве нужны они были ей, и ее, без всякого волшебства, доброму сердцу? А разных растений сколько было!!! Кругом трава да цветы! Перед глазами всегда была свежесть зелени, и ее как самоцветами украшали лепестки самых разных цветов. Я запомнил лилии, цветы пиона, гвоздики и огромное количество полевых цветов. И над всем этим богатством летали самые разные бабочки, стрекозы медоносные пчелы. Порхали птицы. Все было пропитано солнцем, которое отражалось в каждом лепестке, наполняя его жизнью. Пройдет дождь, омывая небесной водой эту сказочную землю, напоит все живое и вновь уступит место яркому солнцу, дабы согреть умытое и наполнить светом напоенное. Счастье видеть все это и самим быть участником этой жизни. Спустя годы как будто увидел я картину. Раннее утро, дышащее свежестью пробивающегося рассвета, пропитано легкой голубой дымкой, благоухающей цветами и растениями, поднимающими свои стебли чуть ли ни в рост человека. Слышится романс «Отвори потихоньку калитку….». И вижу я ее, мою прабабушку, стоящую у избы, и улыбающуюся мне. Буквально мелькнула эта картина у меня перед глазами, одарив своей красотой, и осталась в моей памяти навсегда. Такая вот красивая земля русской деревни, где она прожила в избе многие годы. Беда тому, кто посягнет на ее пределы!
Многие предметы быта прабабушка называла по-своему, по-деревенскому. Я запомнил лишь немного. Ведро – бадейка, сковорода – таганка, керосинки – коптилки, лопата – заступ. Сидим, бывало, с ней на скамейке летним вечером, а комары тучами вьются возле пруда. Естественно, что и нам достается ой как немало. А она, все отмахиваясь от них, приговаривала:
– У, поналетели! Вот поналетели! Попричало вас горой!
Что это за «Попричало» – до сих пор не знаю. Настенным часам-ходикам постоянно поправляла висевшие на цепочке гирьки. Попросила она однажды, сама будучи уже совсем старенькой, мою мать, свою внучку, научить ее буквам, а потом, буквально по слогам, читала газеты. Она кое-как научилась буквам. Еле читала, вполголоса, а то и шепотом выговаривая каждую букву. Голос у нее был низкий. Вот так и жила она, никогда не стремилась ни к земной роскоши, ни к тленной мирской славе. Живя в нужде, не унывала. Сама, во время голода, питалась «тошнотиками», жареными оладьями из картофельной гнили, которую собирали люди по весне, в поле, а делилась с голодными последними остатками муки. Две голодовки пережила. Закон о колосках пережила, революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную. Наших солдат сыночками называла, сильно жалея их, молилась о них и о нашей победе над врагом. Смотря по черно-белому телевизору кадры военной кинохроники, уже в мирное время, постоянно плакала о них. Она, пережившая все это, знала по чем «фунт лиха» далеко не по-наслышке. Чтобы прокормить детей и себя, работала за «десятерых», так как мужа рано похоронила, нося под сердцем третьего ребенка. А было время, когда до революции, по ее молодости барин искалечил ее, ударив бревном. Так и осталась она на всю жизнь хромой. А после революции даже коровенку ей дали, да все людям скормила. Детей вырастила, да внуков нянчила, и правнуков дождалась. Случалось, что и коз, и гусей держала. А моя мама, ее внучка, еще совсем маленькой, любила за козлятами наблюдать, да еще и играла с ними. А гуси тоже к моей маме привязывались, ручными делались. А коза, чуть что не так, есть не хотела. Поставит прабабушка перед ней еду, та клюнет раз, другой, да нос отвернет. Прабабушка и говорит ей тогда:
– Что? Опять нашла что-то? Ах ты, привереда такая.
Ни на кого прабабушка голос не повышала! Покушает, бывало, тихо да спокойно, и на покой, у печки ложится. Чтобы какой-либо культ из себя создавать да следить, чтобы никто за столом раньше нее, самой старшей, за гущей в котёл полез – такого вообще не было. Скромнейшая душа! Никого не ругала, да не учила как жить, а только добром и любовью питала. Как бы трудно ни жила, ни разу не возроптала на судьбу, все чаще молясь на иконы. А когда к ней, старушке, пришел врач, то он, видя ее старческие руки, произнес:
– А сильная ты была, мать!
– Да, сынок, когда-то была, – скромно ответила она тогда.
А когда она умерла, то ходики внезапно тоже остановились. Время ее земного странствия закончилось, а ее приняла в свои светлые объятия Вечность.

Тритон

Два пруда, которые были у деревни, имели свои «названия». Один «чистый», другой «грязный». Впрочем, друг от друга они особо не отличались, только тем, что из «чистого» пруда брали воду в рукомойник, а в «грязном», как это ни смешно, полоскали белье! В «чистом» полоскать белье или купаться было нельзя. Хотя для купания «чистый» пруд как-то не годился. Каким-то холодным он был. Сердце к нему по этому случаю не лежало. А вот «грязный» – пожалуйте купаться! Правда, после такого купания нужно было обмываться чистой водой, вернее, водой из «чистого» пруда. Что касается белья, то опосля такого купания его стирали. И все-таки, несмотря ни на что, купались.
Я все ходил то рано утром с удочкой, то по вечеру на карася. А тут и подъемник навострил. Только, по правде, на удочку карася наловишь больше чем на подъемник, а особенно во время его клева. Но я ходил и с подъемником.
Как-то вечером, наползавшись по пруду досыта, я уже хотел идти домой. Да и Солнце уже почти село. Как обычно летний вечер медленно, но верно переходил в ночь. Было уже достаточно темно, когда я забросил подъемник в «чистый» пруд последний раз на сегодня. Выждав некоторое время, потянул веревку. Подъемник начал медленный подъем со дна. Да какая там в конце-концов глубина! Так, одного ила по пояс. Ну, поднял я его, смотрю. Слега длинная, а значит и высокая. Небольшая сеть на высоте метров трех от моей головы. Небо все еще теплится синевой, но уже темное. Вижу силуэты сгнившей травы, длинные, но толстые поломанные стебли. И вижу я один стебель, который уж больно странно сломанный. Его сломанный конец, как-то уж очень аккуратно закруглен. Как будто специально напильником обточен. И это среди общей сгнившей травы, на высоте трех метров, да еще и почти ночью! «Да ну мало ли что бывает», подумал я тогда и…опустил подъемник снова в воду, даже забыв, что уже пора бы и домой. Секунды три подержал его так. Нет, думаю, что-то здесь не то. Ну не может быть, чтобы сгнившая палочка была вот так ровно сломана! Снова я поднимаю сеть на такую же высоту. Снова всматриваюсь в подгнившую траву. И опять вижу ее, эту аккуратно сломанную палочку! «Да что же это такое?» снова думаю, а вот положить сеть и посмотреть что же это действительно такое, просто лень. «Да ладно, в конце-то концов. Да мало ли что это такое!» думаю снова я, и опять опускаю сеть в воду. Снова секунды три сеть под водой.
– Ну нет! – тут говорю сам себе решительно. – Такого быть не может, что ветка вот так аккуратно сломана! Ведь я же видел явный радиус! А ну, подъем!
И вот сеть снова на той же высоте. И вот тут произошло нечто. Видать, залетному обитателю здешнего пруда поднадоело такое купание, и он… пошевелил лапой! Трудно описуемое свое состояние оставляю в покое, ибо все равно не опишу! Руки затряслись, сердце заухало в груди! Через две секунды сеть уже лежит на земле. Еще через полсекунды я у нее. А вот далее… Перед моим взором предстал тритон огромных размеров! Черный, как смоль, с плоской головой и оранжевым брюхом с черным узором. Я – огромный любитель такой твари, но кроме обыкновенного тритона мне более никто не попадался. Дух у меня зашелся от вида такого пришельца в нашем пруду! Я принял в свои дрожащие от невероятного волнения руки этот действительно дар природы! Потом я побежал домой показывать этот дар …бабушке! Можно себе представить ее реакцию. Прибавьте сюда еще и вечернее время.
– Бабуля! Ты смотри чего я поймал!
Вопли не вопли, но бабушка испугалась.
– Ай! Уйди с ней! Что это такое????
– Бабуля, ты только не волнуйся. Это тритон. Только большой! Он не укусит.
– Где ты его поймал? – спросила умоляющим голосом бабушка, так как она невольно предчувствовала, что ухаживания за этой тварью лягут тоже на ее плечи.
– Да в пруду. Ты смотри какой! Загляденье! – говорил я, держа в руках тритона.
– Ну вот хоть в банку его посади, – простонала бабушка, подавая тритону новое жилье.
Ловил я и прудовых лягушек. Поймаю, притащу в ладошках, показываю родителям, а сам, поглаживая ее, приговариваю:
– Лягушечка моя маленькая, хорошенькая, миленькая…
Ну и так далее. Лягушка то ли понимала ласку, то ли понимала, что ей ничего страшного не грозит, то ли просто не могла двинуться от страха, сидела, вылупя глаза, без движения. И только через некоторое время начинала двигаться – лапы разминать. А отец как увидит, так и говорит:
– Это чего? Лягушку поймал?
Я ему несу показать:
– Да, пап, погляди какая!
– Да ну еще, уйди ты с ней! – говорит, а сам нехотя морщась, одновременно улыбается.
Смешно я смотрелся с лягушкой в руках.
– Иди, иди, покажи папе! – подтрунивала над отцом мать.
– Пап! Да ты посмотри какая красивая! Зеленая! Это же «Царевна-Лягушка»! Как в сказке! – видя поддержку со стороны матери, я вдохновлялся на то, чтобы поближе показать отцу зеленую «Царевну».
– Да уйди ты с ней! – переходил на смех отец, нервно ерзая на скамейке.
А лягушка, находясь в моих ладошках, вовсю шевелила лапами пытаясь освободиться.
Но то лягушка, а здесь целый тритон! Да еще какой! На следующий день тритон несколько похудел. Это была самка. Голова как лапоть, на самом деле немного как бы приплюснутая, с закругленной мордой, а ближе к ноздрям шла как будто бы бугром. Почти как у гадюки Габона. Именно ее-то я и увидел в сети. В длину, вместе с хвостом, она была шестнадцать сантиметров. Скорее всего, это была самка большого гребенчатого тритона. Так вот на следующий день я кинул ей жирного земляного червяка. Один удар челюстями и червяк в ее пасти. Заглотив таким образом пару приличных червей, растолстевшая самка тритона улеглась на дно банки и затихла, переваривая пищу. По отъезду из деревни, естественно, захватив ее, я увозил с собой и то первое впечатление от встречи с ней, которое осталось у меня навсегда. Ну а дома поселил ее в аквариуме, где лишь часть дна было наполнено водой. Большую часть времени самка тритона проводила на суше. И лишь изредка входила в воду. Питалась небольшими кусочками мяса. Нет-нет, да и червей ей подбрасывал. Вот отец не любил земноводных тварей. Ну не нравились они ему.
– Да ну их, противные! – говорил он, но никогда не убивал их.
Ну противные, для него, разумеется, ну и ладно, ну так и пусть себе живут. А не мерзостен ли тот человек, если его так можно назвать, который, если они ему так противны, безнаказанно убивает их, да порою еще и кичится этим своим, так сказать, «подвигом». А вот отец, как ни противна она ему была, спас ей жизнь. По своему разгильдяйству, а это более никак не назвать, я как-то оставил аквариум открытым. Надо сказать, что эти твари «по вертикали стекла пешком ходят»! Бабушка потом рассказывала, что ранним утром отец, ругаясь, тихонько заходит в комнату, и из газеты что-то вытряхивает в аквариум. Лишь днем стало известно, что произошло. Бабушка спросила отца, что это ты, мол, сегодня в аквариум-то вытряхивал из газеты.