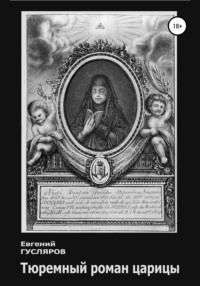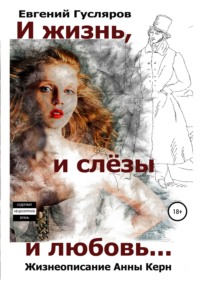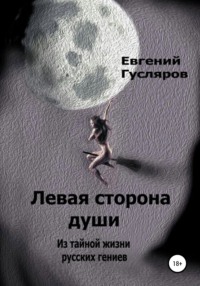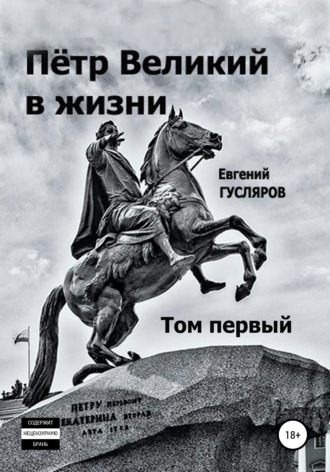 полная версия
полная версияПётр Великий в жизни. Том первый
Василий Татищев. История Российская. Часть 5. С. 35
Эти новыя «припадочныя лица» (фавориты), состоя неотлучно при молодом Царе, сумели приобрести вскоре всю его доверенность, и, сознав свою силу, пожелали власти, как это обыкновенно случается, для себя, а не для своих покровителей, – хотели действовать по своему, а не по чужому усмотрению, – и, чтоб упрочить своё положение, не сказавшись никому, убедили молодаго Царя жениться, по их выбору, на девице из преданнаго им семейства, Агафье Семёновне Грушецкой, племяннице Думнаго дворянина Семёна Ивановича Заборовскаго, которую и показали лицом при каком то крестном ходе…
Погодин М.П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великаго. С. 22
Случилось государю идти в ход со святыми иконами, и между многим смотрящим народом увидел одну девицу, которая его величеству понравилась; велел о ней, кто она такова, обстоятельно уведомиться. Сие Языков немедля исполнил и, уведав, что шляхетская дочь, прозванием Грушетских, живёт у тетки родной, жены думного дьяка Заборовского, государю донёс. И в тот же день сам оный Языков, в дом к Заборовскому приехав, обстоятельно уведомился и, оную девицу видя, снова его величеству обстоятельно донёс. По которому вскоре объявлено тому Заборовскому, чтоб он ту свою племянницу хранил и без указа замуж не выдавал. Которое некоторое время тайно содержано было; но когда его величество изволил вначале Милославскому объявить, что он намерен жениться, и оную Грушевскую представил, то Милославский о браке весьма за нужное советовал, а о персоне просил, чтоб ему дал время уведомиться.
Василий Татищев. История Российская. Часть 5. С. 35
Милославский, увидя беду неминучую, возстал против этого брака, хотел отклонить его, во чтобы ни стало, и представил Царю донесение, в высшей степени неблагоприятное, как об избраной невесте, так и об матери её.
Погодин М.П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великаго. С. 23
Но сие было ещё не довольно… Возомнив, что то происком Лихачёва и Языкова делается, поставил себе в предосуждение и своей силе чрез то за великий ущерб; умыслил государю оную тяжким поношением омерзить, представляя, что якобы мать её и она в некоторых непристойностях известны. А вместо оной представлял его величеству иных персон, на которых надеялся, что ему будут благодарить. Сие привело его величество в великую печаль, что не хотел и кушать. Но Языков прилежно о причине спрашивал его величества, на которое он истину изволил ему объявить. Языков же, узнав хитрость Милославского, немедленно с позволения его величества в дом оного Заборовского с Лихачёвым поехали и ему о том объявили, чтоб он обстоятельно о состоянии её уведомил и в страх живота своего и её не вдавали. Как то было страшно тому дяде и племяннице, и как стыд о таком деле девице говорить, а особенно тогда, как ещё девицу мало посторонние мужчины видали, оное всяк легко догадаться может. Однако ж сия девица, познав, что то напрасная на неё некая клевета причину подаёт, сказала дяде, что она не стыдится сама оным великим господам истину сказать. И по требованию их выйдя, сказала, чтоб они о её чести никоего сомнения не имели и она их в том под потерянием живота своего утверждает. Как оные от его величества со страхом и печалию отъехали, так с радостию и упованием, возвратясь, донесли. Но его величество, по представлению их, ещё едучи гулять в Воробьёве нарочно мимо двора их, снова в окошке чердачном изволил видеть и потом, не продолжая времени, оный брак изволил действительно совершить. И обретши оного Милославского лживое доношение и клятву, запретил ему ко двору ездить.
Василий Татищев. История Российская. Часть 5. С. 35–37
Боярин Милославский пытался расстроить этот брак, чернил царскую невесту, но не достиг цели и сам потерял влияние при дворе.
Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. С. 155
Потом, некоторое время спустя, когда Агафья Грушецкая стала уже царицей, понадобилось сей государыне несколько соболей и камок, и изволила его просить, чтоб он (Милославский) велел, сыскав, ей принести. Которое он немедленно исполнил и, принесши, не в надлежащем тёмном месте остановился, а к государыне послал доложить. В тот час случилось государю мимо идти и, видя, что он таится, прямо к нему придя, спросил, что и куда несёт. И как он, оторопев, сказал, якобы купил для государыни царицы, сие государю весьма противно явилось, что он якобы такими подарками хотел царицу умилостивить, разъярясь, сказал ему: «Ты прежде непотребною её поносил, а ныне хочешь дарами свои плутни закрыть». Велел его с крыльца столкать и послать в ссылку, а принос оный на двор выбросить. Но потом, уведомясь подлинно, что то по приказу из Сибирского приказа принесено и заступничеством Языкова и Лихачева снова от его величества прощён.
Василий. Татищев История Российская. Часть 5. С. 35–37
Царь, не нарушая дедовских обычаев, приказал созвать толпу девиц и выбрал из них Агафью… 18 июля 1680 года царь сочетался с нею браком. Новая царица была незнатного рода и, как говорят, по происхождению полька.
Костомаров Н. Исторические монографии и исследования. С. 155
Эта царица была, по отцу польского происхождения. Выйдя замуж за царя, она сделала много добра Московскому царству. Прежде всего, она уговорила отменить охабни, то есть одежды безобразные женские, которые на войско надел тиран царь, когда оно бежало позорно без битвы с поля сражения, далее она уговорила стричь волосы и брить бороды, носить сабли сбоку и одеваться в польские кунтуши; но самое главное это то, что при ней стали заводить в Москве польские и латинские школы. Также предполагалось выбрасывать из церкви те иконы, которые каждый из них считает своим Богом и не позволяет никому другому поклоняться и ставить [около них] зажжённых свечей. Эти нововведения в Москве партия царя Феодора, как очень обходительного государя и принимавшегося за политику, хвалила; другие же недоброжелатели, из приверженцев опального Артемона, порицали, говоря, что скоро и ляцкую веру вслед за своими сторонниками начнёт вводить в Москве и родниться с ляхами, подобно царю Димитрию, женившемуся на дочери Мнишка.
Дневник зверского избиения бояр в столице в 1682 году… С. 12
В лето 7189(1680) октября в 22 день в. г. ц. и в. кн. Феодор Алексиевпч указал бояром, окольиичым, думным, служилым людем и всякому чину древнюю одежду – однорядки и охобни (долгополые кафтаны и верхнюю одежду с квадратным воротом) – не носити, а указал носить всякому чину служивое платье: кафтаны не на подъём (т. е. короткие).
Беляевский летописец. Опубликовано на http://www.bibliotekar.ru/index.htm
К чести сей Царицы рассказывают следующий случай: Судья Полибин, любимый за правоту свою всеми честными людьми, но ненавидимый врагами совести и Милославским, нуждаясь деньгами, заложил в пятистах рублях деревню. По истечении срока заимодавец требовал денег или грозился оставить за собою деревню. По совету одного из товарищей своих Полибин взял из козны на время триста рублей. Донощики Милославскаго тотчас известили его о сём. Ничего не исследовав, Милославский доложил Государю, что Полибин приличён в краже трёх сот рублей. Царь Феодор, поверя Милославскому, определил наказать Полибина и сослать его в ссылку. Царица Агафья в присутствии супруга своего спросила: «От чего Полибин так поступил». Милославский отозвался незнанием. «Не стыдно ли», – возразила Царица: «осуждать человека без суда и несправедливо докладывать Государю?» Уважая сии слова, Государь приказал исследовать дело. Между тем Царица, узнав о недостаточном состоянии Полибина, приказала Ивану Потёмкину отдать триста рублей приказному того суда, где был Полибин, и обязать приказного роспискою, что он доставит сии деньги судье своему. Царица скрыла имя своё; но благодарность узнала оное. Царица Агафья едва блеснула на престоле, и померкла!..
Глинка С.Н. Русская история, сочинённая Сергеем Глинкою. Ч. 1-16. М. 1825. С. 151–152
Москва становится каменной
И бысть сей государь (Фёдор Алексеевич) кроткий, в делех разсудительный, премудростию и разумом подобный Соломону. При его же царстве повелением его верховые святыя божией церкви украсишася предивным благолепием, и град Кремль поновися, и на башнях верхи изрядно построишися.
Беляевский летописец. Опубликовано на http://www.bibliotekar.ru/index.htm
Между прочим, его величество великую охоту к строениям имел. Он построил при себе хоромы на Воробьёве, которое место больше всех подмосковных жаловал; и оные ещё до сих пор видимы, хотя прочие строения оного дому от неприсмотра сгнили и развалились. В Москве хотелось ему прилежно каменного строения размножить и для того приказал объявить, чтоб припасы брали из казны, а деньги за оные платили в десять лет. По которому многие брали и строились. При нём над кирпичными мастерами был для особливого смотрения Каменный приказ учреждён и положена была мера и образцы, как выжигать. Не меньше надзирали и в мятье глины, но чтобы кто своей работы не отпёрся, велено на десятом кирпиче каждому мастеру или обжигальщику свой знак класть. Камень белый также положен был только трёх великостей, каков продавать и мельче возить было запрещено, разве б кто особенно кого для потребы мельче привезти подрядил. Для которого учреждён был специальный Каменный приказ, и для произведения оного дано было довольное число денег, на которые б, заготовив довольство припасов, по вышеписанному для строения в долг раздавать. Но как в прочем, так и в сём добром порядке за недостатком верности и лакомством временщиков припасы в долг разобрали, а денег ни с кого не собрали, ибо многим по прошениям их государь деньги пожаловал, и взыскивать не велел. И таким образом оное вскоре разорилось.
Василий Татищев. История Российская. Часть 5. С. 39
Записи о его личных распоряжениях только с апреля 1681 г. по апрель 1682 г. (т. е. по кончину) содержат указы о строительстве 55 объектов в Москве и дворцовых сёлах, каждому из которых царь дал точную архитектурную характеристику «против чертежа», причём время от времени менял детали проектов. Указы о срочных работах на новых объектах отдавались 7–9 раз в месяц; неудивительно, что с весны 1676 по весну 1681 г. в Москву неоднократно вызывались каменщики и кирпичники из других районов.
Кремлёвский дворец, включая хоромы членов царской семьи и дворцовые церкви, мастерские палаты (начиная с Оружейной), комплекс зданий приказов, – всё было перестроено и возведено вновь в царствование Фёдора Алексеевича, соединено галереями, переходами и крыльцами, богато и по-новому изукрашено. Пятиглавые каменные храмы на Пресне и в Котельниках, колокольня в Измайлове, ворота в Алексеевском, два каменных корпуса под Академию на Никольской и ещё десятки каменных зданий были результатом трудов юного государя.
Богданов А.П. Царь Федор Алексеевич. М.: Изд-во Университета Российской Академии Образования. 1998. С. 12
Как отец сего государя великий был до ловли зверей и птиц, так сей государь до лошадей был великий охотник и не только предорогих и дивных лошадей в своей конюшне содержал, разным поступкам оных обучал и великие заводы конские по удобным местам завёл, но и шляхетство к тому возбуждал. Чрез что в его время всяк наиболее о том прилежал, и ничем более, как лошадьми хвалился. При конюшне его величества славный берейтор и в великой милости был Тарас Елисеев сын Поскочин.
Татищев В.Н. История Российская. Часть 5. С. 42
Быт государя был заполнен полезными занятиями не менее чем его рабочие часы. Он много читал, получая дарственные экземпляры на разных языках от авторов и выписывая новые книги… Любители музыки хорошо знакомы с его песнопением «Достойно есть». Возможно, Фёдор Алексеевич оставил след и в инструментальной музыке – по крайней мере, клавикорды, орган и другие «струменты» были в его комнатах с раннего детства. Станковой живописью придворных художников были увешаны в его царствование чуть ли не все помещения Кремлёвского и пригородных дворцов: царь умел ценить и вознаграждать труд мастеров и сам имел дело с красками, заказывал художникам определённые сюжеты и композиции.
Богданов А.П. Царь Фёдор Алексеевич. С. 42
Сей государь при отце своём учён был в латинском языке старцем Симеоном Полоцким. И хотя во оном языке не столько, как брат его большой, царевич Алексей Алексеевич, был обучен, однако ж чрез показание оного учителя великое искусство в поэзии имел и весьма изрядные вирши складывал. По которой его величества охоте псалтырь стихотворно оным Полоцким переложена, и во оной, как сказывают, многие стихи, а особенно псалмы 132 и 145 сам его величество переложил, и последний в церкви при нём всегда певали. А также его величество и к пению был великий охотник, первое по партиям и по нотам четверогласное и киевское пение при нём введено, а по крукам греческое оставлено.
Василий Татищев. История Российская. Часть 5. С. 38
Весьма часто певал он сам на клиросе и исправлял должность регента…
Берх В.Н. Царствование царя Феодора… С. 100
И был он достойный брат Петру Великому
Царь Феодор Алексеевич, сидя на престоле российских государей, преодолевая препятствие слабого своего здравия, царствовал, умножая ежедневно благоденствие своего отечества, не имев ни жестокосердия, заглаждающего и самые великие дела монархов, ни мягкосердия, отклоняющего скипетр от правосудия и отверзающего злодеям пути к нарушению общего спокойства и безопасности. Был хранитель правосудия, любитель наук, покровитель бедных, решитель перепутанных тяжб, истребитель разорительной одежды, сего суетного малоумных людей украшения, искоренитель местничества, вместо заслуг отечеству почитающих бесполезное роду человеческому своё родословие, облегчитель народных тягостей и уменьшитель дороговизны, которая главный источник народного злоденствия, украситель красноречия цветами, из российского языка рождёнными, ибо тогда язык наш ещё не был нашпигован ни немецкими, ни французскими словами, а россияне во дни его не старалися ни в немцев, ни во французов претвориться, но исправиться, просветиться и быти достойными подлинниками, а не слабыми, смешенными и колеблемыми сообразованиями чужестранцам, собственными своими гнушаяся почтенными качествами; ибо не думали ещё тогда, как ныне некоторые думают, того, что посыпание на голове сей пшеничной муки, которую мы пудрою называем, уподобляет нас прочим европейцам, ибо прочие нашея света части жители, не пудрою, но науками от азиятцев, африканцев и американцев отличаются. Бредят люди, проповедовающие то, что мы до времён Петра Великого варвары или паче скоты были, – предки наши были не хуже нас, а сей последний царь в нашей древности был достойный брат Петру Великому.
Сумароков А.П. Первый и главный стрелецкий бунт бывший в Москве в 1682 году в месяце майи / Писал Александр Сумароков. – [СПб. ]: Печатано при Имп. Акад. Наук, 1768. С. 8–9
Бредят люди, проповедывающие то, что мы до времён Петра В. варвары или паче скоты были; предки наши были не хуже нас; а последний царь Феодор в нашей древности достойный был брат Петру В. И не было другова Россиянам превращения, как вопят новомодныя невежи, наслышавься от чужестранных, которым они сами о себе такую подлость натолковали, кроме сея, что сии сумазбродныя толкователи превращены стали; ибо они из человеков ненапудренных, действительно, в напудренную превратилися скотину.
Бецкий И.И. Цит. по: Аристов Н. Московския смуты в правление Царевны Софьи Алексеевны. Варшава. 1871. С.142
Ещё дед, а потом отец Феодора, усматривая великое зло, проистекавшее от местничества, помышляли о прекращении его. Чего державные предки Феодора не могли исполнить в течение более полувека, то он совершил в весьма короткое время своего царствования. Но слава такого подвига, без сомнения должна быть разделена с Голицыным, который, хотя сам происходил из дома великих князей литовских, однако презирал закоснелыя мнения своих соотечественников и пустые предразсудки, будто знатность и порода предков составляют достоинство их – первый подал совет о уничтожении местничества.
Терещенко А. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. Ч. 1. СПб. 1837. С. 146
Важнейшим делом князя Василия Голицина при Феодоре было уничтожение местничества, оно тем более достопамятно, что Голицын обнаружил при этом случае столько же ума, сколько и безкорыстия: с отменою родословных расчётов он терял едва ли не более других, потому что род его принадлежал к числу знатнейших по службе.
Устрялов Н. История царствования Петра Великаго. Т.I. Примечания. С.-Петербург, 1859. С. 290
Местничество вытекло из родовых начал, которыя господствовали когда-то в отношениях удельных князей; удельныя владения уничтожились, но понятия о старшинстве как городов, так родов и, наконец, лиц в одном роде, сохранились; члену старейшаго рода «не доводилось» сидеть за столом царским ниже члена одного из младших родов; старшему родичу нельзя было находиться в войне под командою родича младшаго. А кто по ошибке, нерадению или недостатку твёрдости уступал свое место младшему, тот унижался, делал «потерьку» не только себе, не только прямому своему потомству, но всему своему роду, так что раз обойдённый навсегда был унижен. Поэтому понятно, отчего предки наши так дорожили старшинством своим, своим местом; почему они, будучи не соответственно понятию о старшинстве назначены в войско, убегали с поля сражения, почему сказывались больными, чтоб не сидеть за царскими столом ниже некоторых фаворитов, а когда их приводили за стол силою, то вырывались, со слезами протестовали, прятались под лавку и т. п.
В придворных церемониях этот счёт старшинством и местами мог подать повод только к неуместным и смешным сценам, но в государственной службе следствия его были несравненно важнее. Воевода, назначенный в какой-нибудь город, отказывался от назначения, если в другом каком-нибудь городе, на противоположном конце России, был воевода моложе его родом, или если город, в который он назначался, был моложе другого, управляемаго воеводою, равным с ним по роду, ибо и города имели свою иерархическую лестницу, и не только города, но и различные пункты в одном и том же городе! Сколько мелких, ничтожных, отнимающих только время расчётов должно было государю брать в соображение при каждом назначении к гражданской, военной или придворной должности!
Щебальский П. Правление царевны Софьи. М., 1856. С. 100–101
Отечественная, история знает много примеров трагических несуразностей, происходивших от этого неистребимого зла. Москва уже слышала (в 1591 году) топот ханских коней, а воеводы всё ещё не переставали спорить о старейшинстве, и не шли к своим местам. Ослеплённые самолюбием, они, из опасения лишиться мнимой чести, не боялись бесчестия истинного: неправых жалобщиков наказывали телесно, и даже иногда без суда: князя Гвоздева, например, за местничество с князьями Одоевскими, высекли батогами (1589 г.) и выдали им головою, т. е. велели ему униженно молить их о прощении. Князя Барятинского, за спор с Шереметевым, посадили на три дня в темницу; но он и тут не смирился: вышед из темницы, не пошёл на службу. Князья Мстиславские с Шуйскими, Глинские с Трубецкими, Шереметевы с Сабуровыми, Куракины с Шестуновыми, и многие другие, оставили по себе такого же рода воспоминания.
Терещенко А. Опыт обозрения жизни сановников, управлявших иностранными делами в России. Ч. 1. СПб. 1837. С. 147
Хотя при Дворе коварство и неразумие превозмогало правоту и добродетель, но нравы общественные в царствование Феодора Алексеевча заслуживали уважение. Родственники от искренняго сердца наблюдали поступки родственников своих; замечая что-нибудь предосудительное, увещевали исправиться. Есть ли же виновный отвергал советы, тогда сходился суд семейственный. Старший родственник, председательствуя в сём обществе, укорял непослушнаго пред всеми в том, что он, не боясь Бога и не стыдясь людей, бесчестит род свой и не сохраняет доброй славы. Такия обличения не редко происходили на Красной площади пред лицем Бояр и народа. Правила нравственности заключались тогда в сих кратких и достопамятных изречениях: «Увидишь ли что непристойное, не смотри; услышишь ли что дурное, не слушай и забудь; хочешь ли вымолвить что-нибудь непохвальное, не говори; бойся Бога, люби Царя, люби ближних, делай добро».
Глинка С.Н. Русская история, сочинённая Сергеем Глинкою. Ч. 6. М. 1825. С. 171
Учителям обещано было в их старости успокоение и жалованье по трудам, и ученикам по окончании наук приличные чины их разуму.
Берх В.Н. Царствование царя Феодора… С. 103
Гостеприимство почиталось священным долгом. Богатые, получая сольские припасы, обделяли бедных таким образом, что иногда те и не знали, чья рука питает и подкрепляет их семейства. Не редко также на дворах и в домах Боярских угощали нищих как братий и гостей. Царь Феодор поддерживал семейственныя судилища и уважал нравственность общественную.
Глинка С. Н. Русская история, сочинённая Сергеем Глинкою. Ч. 6. М. 1825. С. 172
Хорошие цари долго не живут
Того ж году, июля в день (число не указано), родися у государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержца царевич и великий князь Илья Феодорович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец; крещён бысть в Чюдове монастыре. А крестил ево, государя, святейший Иоаким патриарх Московский и всеа Русии; отец крестной – троецкой келарь. Того ж году (14 июля, 1681 года), преставися благоверная и христолюбивая царица и великия княгиня Агафья Семионовна, погребена в Вознесенском девиче монастырее, где и прочии царицы погребаются.
Записки о стрелецком бунте.// Труды отдела древнерусской литературы. – 1956. – Т. 12. – с. 449 (в публ. M. H. Тихомирова «Записки приказных людей конца XVIII века»).
Для Языкова и Лихачевых это несчастное событие было неожиданным и вместе грозным ударом. Положение их делалось опасным. В случае неминуемо-близкой смерти Фёдора они становились лицом к лицу Милославских и Царевен, которым легко будет захватить власть под именем старшаго брата царскаго Ивана, и отомстить им с лихвою за своё отстранение и унижение – участию Матвеева, или ещё хуже. Хитров с Долгоруким, озлобленные на них, не явились бы к ним на помощь. В таких ожиданиях надлежало думать о спасении и воспользоваться положением своим при Государе, пока он ещё жив, чтоб приготовить себе союзников или покровителей. Где же искать их? Негде, кроме Нарышкинской стороны, около младшаго Царевича Петра! Надо сойтись с ними, как с естественными противниками Милославских, вызвать их из ссылок, поднять на высоту, и они, обязанные благодарностию, сделаются друзьями и покровителями.
Языков и Лихачевы убедили Фёдора, не смотря на слабость и болезнь, вопреки советам врачей, взять себе другую жену, и на этот раз предложили четырнадцатилетную крестницу Матвеева, Марфу Матвеевну Апраксину.
Погодин М.П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великаго. С. 23–24
Когда слабому здравием Феодору советовали вступить во второй брак, тогда ответствовал он: «Отец мой имел намерение нарещи на престол брата моего, царевича Петра, то же сделать намерен и я». Сказывают, что Феодор то же говорил и [боярину] Языкову, который ему сперва противоречил и, наконец, отвратил разговор в другую сторону и уговорил его на второй брак.
Пушкин А.С. История Петра. С. 326
«Брат мой Пётр, – говорил он, – здрав и оделён от Бога всеми достоинствами и достоин наследия державнаго престола российскаго. Родитель мой ещё имел намерение его наречь преемником, но ради юных его лет назначил меня. По воле его сделаю и я!».
Записки новгородского дворянина Петра Никифоровича Крекшина. Санкт-Петербург, 1841. С. 16
Гибельное счастье Артамона Матвеева
В ссылке Артемон [Матвеев] пробыл немало времени, лишённый возможности поддерживать сношения со своею партией издалека, так как был под крепкой стражей, и оставался до тех пор, пока не умерла в родах первая супруга царя Феодора Агафья Грушецкая, произведя на свет сына Илью, а за нею умер и сын, четыре недели спустя.
Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году… С. 12
Горе царя Фёдора Алексеевича, причинённое смертью его первой супруги Агафьи Симеоновны и сына, царевича Ильи Фёдоровича, сильно повлияло на его здоровье. Его любимым правителем был в то время Языков. Царь объявил ему, что, зная о слабости своего здоровья и желая предупредить бедствия, могущие нарушить государственное спокойствие в случае его кончины, он намерен назначить наследником престола своего брата Петра Алексеевича. Языков представил ему, что прямым наследником является царевич Иван Алексеевич, как единоутробный брат государя, к тому же старший брат Петра. Государь не согласился, сославшись на слабое здоровье царевича Ивана, и добавил, что Пётр, напротив, сильного сложения и что к тому же бог наделил его выдающимися дарованиями, почему он и более достоин ему наследовать. Любимец, имевший какие-то счёты с Нарышкиными, сделал всё возможное, чтобы отдалить царевича Петра от престола. Он даже посоветовал царю немедленно вступить во второй брак, чтобы дать государству наследника. «Я не раз беседовал с лекарями о твоём здоровье, – добавил он, – все мне отвечали, что ты скоро совершенно поправишься и будешь жить ещё долго».