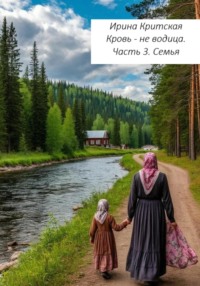полная версия
полная версияДа воздастся каждому по делам его. Часть . Ирка
– Держи себя в руках. Ты сделала глупость, придется ответить. Большую глупость.
Меня вдруг прорвало, я затряслась так, что застучали зубы, но плакать я не могла от страха, просто холод внутри еще усилился и заморозил мне что-то важное. Может сердце. Или желудок.
Мама присела на корточки, повернула меня к себе и посмотрела мне в глаза серьезным долгим взглядом.
– Ирк. Не трясись. То, что ты натворила – ошибка, случайность, глупый, дурацкий поступок. Но в нем нет зла, тем более —подлости. Только чистая глупость. Главное, чтобы там не было большой беды. Господи пронеси.
Мы с мамой стояли долго у дверей медицинского кабинета. Толпа уже начала расходиться, все постепенно теряли к случившемуся интерес. Мама держала меня за руку, никуда не уходила и терпеливо ждала. Я тоже вцепилась в её ладонь ногтями и держалась, как за соломинку. Мне казалось – если я её выпущу, то мир рухнет.
Подошла директрисса, что-то шепнула маме на ухо, она покачала головой и пожала плечами. Время тянулось, я оглохла на одно ухо, внутри него ватно хлопало. Наконец, открылась дверь.
Забинтованный, как партизан, Юрка смотрел горделиво. Его крепко держала за руку медсестра и он дергался, пытаясь вырваться. Наконец, освободился и прямым ходом направился к нам. Медсестра засеменила за ним. Я почувствовала, как мама вздрогнула, сжала мою руку, и её ладонь стала холодной и влажной. Всей той картины она не видела и такой забинтованной сплошь головы страдальца, явно не ожидала. Я напряглась, и ужас еще больше сгустился, где-то там, под ложечкой, став каменным и круглым,
– Ничего страшного. Медсестра смотрела на нас с жалостью, вроде как жалела больше меня, чем раненного бойца. Но, судя по всему, особенно она жалела маму, имеющую такое безобразное создание, как я, пробивающее портфелями головы всем направо и налево.
– Только кожу задели, пропорота слегка, за ухом. Там кровоснабжение хорошее, поэтому так кровило. Все заживет за пару дней.
Она погладила меня по голове, удивленно посмотрела на свою мокрую ладонь. Еще бы. Голова у меня была, как у мокрой мыши. Рука у мамы расслабилась, она отпустила меня и присела перед Юркой. Потрогала его за свободное, торчащее из-под бинтов, ухо.
– Ты как, Юр? Очень больно?
–И ничо не больно, чо там больно.
Юрка загнусавил быстро-быстро, одновременно вытирая красный, сопливый нос.
– Вот когда Колька из четвертого б мне клюшкой засветил по шее, вот больно было. И то я не ревел. Вы Ирку не ругайте, Ангелина Ивановна.
– Почему, Юр? Она заслужила, вон чего натворила. Да и папа твой пусть придет, пусть поговорит с ней. По заслугам. А хочешь, мы с тобой ее выдерем? Знаешь, как раньше, розгами?
Мама испытующе смотрела на нас, я хорошо знала этот взгляд – озорной, провокационно-хитрый. Дразнилка. Она уже успокоилась, улыбалась затаённо, и мне стало легче. Но Юрка-то её не знал. И, похоже испугался. Драть меня розгами в его планы не входило.
– Не. Да вы чо. Кто живых детей дерёт?
Юрка вдруг повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Я первый раз заметила, какие они у него синие. И круглые, как мячики. И смешливые
– Она и не виновата. Она правильно за Маринку заступилась, Маринка маленькая. Я сам виноват…
***
Гаммы сходились и расходились, то стучали молоточками, то тянулись резиной. Я поставила на пюпитр Кассиля – «Кондуит и Швамбранию» и, стараясь не сильно гоготать в самых смешных местах, тянула эту тощищу покорно, без конца повторяя одно и тоже. Так было легче читать, а папа сзади, в кресле мирно дремал, всхрапывая на высоких тонах. Главная задача – не делать больших перерывов, и не сильно заикаться, потому, что тогда он вдруг просыпался, открывал один глаз и спрашивал каждый раз одно и тоже:
– Ну как, Голяп? Пилишь?
Я кивала головой, он умиротворенно кивал в ответ, и мирно засыпал. Под Кондуит занятие проходило на ура, и все были счастливы. Кроме мамы. Если мама была дома, номер не проходил. Вернее, он проходил, пока я шуровала гаммы, но вот дальше шёл Бах, а его, как на грех, мама очень любила. Обмануть её и с гаммами было непросто, но к ним она особо и не прислушивалась, а вот Баха ждала. Я оттягивала гадскую прелюдию, как могла, стараясь ухватить, как можно больше Кондуита. Но очередь все равно доходила, и мне приходилось смириться. Так, чтобы не проснулся папа, пиликая одной рукой, я исхитрялась опустить Кассиля на пол и задвинуть его ногой под пианино. Получалось виртуозно, и только тогда я брала первые глубокие аккорды. Тут же слышались легкие шаги, открывалась дверь, и облачко нежного маминого аромата проникало в комнату. Она тихонько, почти на цыпочках, прокрадывалась и садилась на подлокотник папиного кресла. А я гордо выводила прелюдию, стараясь рассмотреть в полированной глади пианино мамино отражение.
– Ты сегодня неплохо играешь, чувствуешь музыку.
Мама всегда говорила эту фразу, слушая Баха и я знала, что сейчас у нее повлажнели глаза, а лицо стало нежным-нежным и мечтательным.
***
– Знаешь, Ирк, я всегда так любила это время, когда мы уезжали. Ты даже не представляешь. Счастье такое чувствовала, как будто домой возвращалась. Там сейчас река такая широкая, зелень вокруг. На рыбалку поедем, может на раков.
Мы ехали на такси на вокзал, меня отвозили в деревню. Такси катило по уже чуть хмурящейся Москве, которой она бывает в теплые летние вечера. Еще не сумрак, но уже и не свет, тёплые отсветы на влажном асфальте от теряющегося среди домов неяркого солнца, запах нагретых клумб и воды, которой нещадно поливали и так чистые улицы. Машина ныряла в длинные тоннели-перегоны и тогда, в свете тоннельных огней, я видела блестящие мамины глаза. Она казалась совсем девчонкой, почти подружкой, которая рассказывала мне свои тайны.
– И ты там… знаешь… К цыганам поменьше ходи.
Она вдруг отвела глаза и помолчала.
– И их не поважай. Не надо…
Я ничего не сказала. Я прятала от неё в потайном месте сухой гладиолус, который мне перед отъездом, в прошлом году подарил Рамен.
Глава 7. Рамен
Баба Поля истово клала поклоны перед черной иконой, на которой почти не было видно ликов. Бабушка стояла на коленях, прямо на домотканом коврике, расстеленном перед небольшим треугольным столиком. Я всегда удивлялась, как ей это удается – с таким большим, полным телом легко опускаться и также легко вставать. Дед запаздывал к молитве, и я по бабулиному затылку, красиво обтянутому платком, видела, что она недовольна, и деду достанется. Скоро наступал яблочный спас и увиливать от молитвы, как я понимала, было очень плохо. Но хитрый дед увиливал, причем явно не в первый раз. Ему тяжело было стоять на коленках так долго, и он мостился, подкладывая подушку и распределяя вес. Потом размашисто крестил лоб, потом ещё и ещё, опускался ниц, почти приправ лицом к старенькому половику. Вздыхал с облегчением, кряхтя вставал, еще раз крестился и, тихой сапой, почти беззвучно, как в омут бросался в дверь, стараясь не скрипнуть.
Бабушка, чуть поворотившись всем телом, шевелила губами недовольно, словно говоря своё любимое «ишь», и снова уходила в молитву. Жужжали мухи – мерно, ровно, умиротворяюще, в комнате с опущенными ставнями было прохладно и как-то особенно легко дышалось, пахло яблоками и квасом. Я подремывала, клевала носом, и чувствовала то тихое счастье, которое жило только здесь, в деревне.
***
– Останешься еще на недельку, Ирк? У нас дел полно, потом с баб Аней приедешь.
Мама, несмотря на свою полноту, легко сгибаясь, ловко мыла пол огромной кухни. Большое ведро с мыльной водой она передвигала одним пинком белой босой ступни и я, сидя на сундуке, смотрела, как еще долго вода беспокойно плещется, плюясь белыми подтеками на непромытые крашеные доски. Мама высоко заколола пышные волосы, они кудрявились под шпильками и были уже совсем не рыжими. Я очень жалела, что мама перекрасилась. Из-под пепельно-светлой челки смотрели вроде те же зеленые глаза, но они были уже не такими яркими и не такими лисячьими.
– Ага. Останусь. Тут ещё все ребята, никто не уехал. И Ленка и Вовка. И Женька, – сказала я вслух, а про себя подумала —«И Рамен, тоже кстати».
Моя деревенская компания была веселой и шебутной. Несмотря на наш, уже довольно солидный подростковый возраст, мы толпой носились по деревне, успевая все и везде. Увязывались с дядьями за кукурузой и горохом, набиваясь в телегу до тесноты, прыгали с тарзанки, раскручивали окончательно заброшенную рыночную карусель до дикой скорости, так, что из нее летели старые винты и щепки. Часами лазили по посадкам, собирая странные, кругленькие грибочки, которые после жарки на костре скрипели на зубах, как резиновые и были необыкновенно вкусными. Втихаря отвязывали дядь Борину лодку и уходили в дальнее плавание. С Вовкой. Очередным Вовкой, братом Женьки, моей новой подружки – толстым, бестолковый и до одури в меня влюбленным.
– Вот-вот. Именно! Женька и Вовка. Хорошие же ребята, веселые, умные. С ними и водись. А то цыгане. Закрытый они народ, потаённый. Не лезь к ним, я тебе говорю. Не лезь.
Мама разогнулась, вытерла руки о фартук, легким движением вытянула шпильку из кудряшек, тряхнула головой. Солнечный лучик пробился через пыльное кухонное окошко и зажёг розовым огнем светло-пепельные пряди.
– Ты сегодня Женьку с Вовкой зови, гулять пойдем, вдоль речки, после ужина. Давай?
Еще бы не давай. Я до визга обожала эти прогулки. А ещё я поняла, что мама чувствует себя виноватой за свой отъезд. И поэтому не продолжает разговор о цыганах. А поговорить ей было бы о чем.
***
– Нежная ты… городская. Пахнешь так… фиалкой что ли…
Мы стояли на берегу под кряжистой черемухой, спрятавшись в зарослях чернобыльника. Как так получилось, я даже не поняла. Просто хотела набрать бабе Поле ягод, она задумала пирог. И вдруг, он! Тихонько, неслышно подкрался, положил руку на плечо. Я вздрогнула, как лошадь, укушенная оводом, и хотела было ломануться прочь, прямо через кусты, но слабость стреножила меня, и я остановилась – резко, наверное, даже, всхрапнув. Дернув плечом, скинула руку Рамена, хрипло тявкнула —«Отстань», и тут же почувствовала, как полыхнуло в лицо горячим, и вспотела спина.
– Не злись, чергэнь*. Глянь, я тебе что дам.
Рамен наклонился ко мне, видимо с высоты своего роста он мог разглядеть только мою макушку. Пригладил волосы тёплой, твердой ладонью и взял мою руку. Я сжалась и попыталась вырваться, но он крепко стиснул мои пальцы и развернул к себе лицом.
– Это мне мать дала. Говорит – невесте отдашь, когда время придет. А я тебе. Держи.
Он разжал мне пальцы и сунул в ладонь что-то остренькое и теплое. И снова крепко сжал мою руку, собрав пальцы в кулачок. Потом отпустил, даже слегка подтолкнул в спину в сторону тропинки.
– Давай, беги, цветок души моей. А то увидят, будут брехать. Нехорошо.
Я пришла в себя только на тропинке, когда неслась вдоль огородов, как будто за мной гналась стая бешеных собак. Задохнувшись, уселась на тыкву и осторожно разжала руку. На покрасневшей ладони лежала тоненькая веточка, слегка поблескивающая стеклянной капелькой на маленьком ажурном Листик. Точно такой же брошкой, я когда-то заколола Оксанке воротничок…
***
– …Рааааасцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой..
Звонкий мамин голос разносился далеко и звенел в тихом, вечернем, степном воздухе, пропитанном запахами засыхающих трав. Мы дружной компанией бодро топали вдоль речки, куда глаза глядят. Правда хитрая мама видела цель, в руках у нее был здоровенный бидон и тряпичная авоська, которой она размахивала, как флагом. На обратном пути нам надо было завернуть к «хозяйке» за молоком с вечерней дойки и за творогом. Баба Поля корову уже не держала, но сметану делала, и на погребице всегда стояла крынка, полная этой вкуснотищей.
На мне был новый нарядный сарафан и белые носки. По сравнению с чумазой Женькой и толстым Вовкой с голым пузом, нависающим над штанами-пузырями, я чувствовала себя королевной. Дурак Вовка набирал ромашки в неопрятный лохматый ворох и старался сунуть мне в руки, но тащить этот веник мне не хотелось, и я брыкалась.
– Мам. Что ты про груши эти так вопишь? Давай лучше про васильки, а? Помнишь, ты пела?
– Про васильки, Ирк, надо сидя петь. И влюбившись. Ты вот – влюбилась? Вон Вовка может петь, а ты нет. Влюбиться надо. Да, Вов?
Она затеребила Вовку, пощекотала и пригладила лохматый чубчик. Вовка покраснел, вывернулся и замычал, как бычок:
– И ничо я не влюбился. Это она сама влюбилась. В Ромку – цЫгана.
Мама отпустила паренька, задумчиво на меня по смотрела.
– В Ромку, говоришь? Ну, ну… Ладно, давайте петь. Про васильки…
***
Уже почти стемнело, на берег опустилась та нежная прохлада, которая бывает в конце лета, после жаркого дня. Мы брели по улице, тяжеленный бидон тащили по очереди, но маме не отдавали. Ужинать не хотелось, потому что «хозяйка», обожавшая маму, навалила нам по миске желтоватого, плотного, разваливающегося на сочные, влажно- зернистые пласты творога, залила их еще не «вставшей» сметаной и украсила темно-бордовыми пиками перетертой с сахаром смородины.
– Йишты, це витаминчик.
И мы йылы, пока животы не стали перевешивать усталое туловище…
***
– И представляете, у неё нет даже кровати нормальной, спит на раскладушке. Папа не то, что бьёт её, он воспитывает, как он считает. Заставит лечь на лавку и сечет тоненькой хворостинкой. А мама плачет, но сделать ничего не может. Да и на работе она всегда, деньги зарабатывает.
Мама рассказывала нам историю своей ученицы, которая совсем недавно попала к ней в класс. Я видела эту девочку, она пару раз была у нас дома. Неровно и очень коротко стриженная, так что оттопыренные ушки казались в два раза больше, чем были, с большими серыми глазами и маленьким курносеньким носом, она была похожа на плохо сделанного чебурашку. Ходила сгорбившись и немного боком, как будто стеснялась кого, или боялась. Мятое платье подчеркивало сутулые худенькие плечики, ножки были совсем тонкими, и ставила она их не красивым иксиком. И только руки у нее были необыкновенными. Белые, фарфоровые кисти, нежные, длинные, изящные пальчики. Её руки мне почему-то всегда бросались в глаза.
– И вот, Вера Павловна, это, ребят, Иркина учительница пения, как-то осталась в классе после уроков. Сидит, наигрывает песенку, которую они разучивают, листает ноты…
Мама всегда умудрялась рассказывать так, что я видела картинки воочию, вот и сейчас живо представила пустой, полутемный класс и красивый седоватый затылок Веры Павловны, склонившейся над стареньким классным пианино.
– Открывается дверь, заходит Юля, – продолжала мама, и ее голос стал совсем другим, тем, странным, ласково-задумчивым, которым она всегда говорила о детях
– На цыпочках заходит, она ведь всегда такая стеснительная. Подходит к Вере Павловне и вдруг, неожиданно громко и настойчиво говорит: «Научите меня, пожалуйста, играть. Я сама пробовала, но только гаммы могу и песенки». Вера Павловна посадила её за пианино, а Юля как начала вашу песню играть, да так здорово. А ведь никто не учил, сама. Её в музыкальную школу отвели, там на нее, как на чудо смотрели. Сразу приняли, без экзаменов. Она настоящий талант!
То острое чувство, которое я испытывала, когда ревновала маму к чужим детям, давно притупилось и я, наоборот, стала принимать самое горячее участие в её делах, сопереживать, даже может любить эту постоянную детскую толпу, не переводящуюся у нас в доме. И сейчас, я слушала, открыв рот, и уже ненавидела поганого дядьку, Юлиного отца.
– Теть Гель, – Женька вынырнула из своей мечтательной задумчивости, она хорошо рисовала и тоже мечтала попасть в художественную школу, – А где она научилась-то? У нее же мама – уборщица, папа пьяница… У них что, пианино есть?
– Нет, Женечка. Она то в зал проберется школьный, у нас – там рояль. Спрячется за занавеску и ждет, пока не закроют. А дежурные жалеют, не трогают, не выгоняют. То у подруг. Где может, везде играет. Богом целованная…
Я вспомнила баб Полину икону. Ту, парадную, где потемневший от времени Бог, стоит на облаке и опирается на кудрявые головки ангелов. Представила, как он наклоняется и целует меня в макушку. Мне стало не по себе. Мой красный галстук уже должен был вот-вот смениться на комсомольский значок, и я была очень идейная.
– Просто она способная, причем тут Бог?
– Ладно-ладно, пионэрка, не кипятись зря.
Мама грустно посмотрела на меня и улыбнулась
– Яблоко бабушка даст святое, не упирайся, не расстраивай ее. Возьми… Вот я и еду пораньше домой. Надо что-то решать с Юлей. За ее обучение педсовет деньги выбивает. Да и с семьей надо что-то делать… Может прав эту сволочь лишать что ли…
Мама говорила уже не с нами, но мы слушали её рассказ, жалея Юльку до слез. А тихая луна потихоньку всходила над Караем…
*Чергэн – звездочка
Глава 8. Опять романо камам
– Нехристь, а не дитя. Зьишь яблоко, тады на гулянку пидэшь. А так – сиды.
Я впервые видела, чтобы баба Поля так сердилась. Всегда спокойная, величавая, как королева, она никогда не повышала голос и никого ничего не заставляла.
«Бог с вами и вашими дытями», – скажет ласково, перекрестит, повернется и пойдет, поплывет по двору, как большой, темный корабль. Гулять до рассвета, валять дурака с друзьями на сваленных у двора огромных бревнах, купаться до посинения, объедаться зеленух – с прабабкой можно было всё. Правда, если строго выполнить сегодняшние предписания на день. А они были невелики, эти предписания, но обязательны, и всегда интересны для меня, городской девчонки, которая при уборке ничего, кроме новомодного пылесоса в руках не держала. А здесь! Мазать хату смешной мочальной кистью, которая брызгается красивой, голубоватой побелкой, как норовистая лошадь хвостом… Да еще вместе с мамой, заливисто хохочущей, когда белые брызги попадают на ее полные, обнаженные руки, стекая по ним тоненькими, светящимися ручейками. И получить целый веер щекочущих брызг в ответ! Или полоскать белье на мостках, гоняя смешливых лягушек и серебристых рыбок! Или дарить кирпичом крыльцо, отталкивая вечно пристающую маму, которая, оказывается, тоже обожает это делать.
И тут…
…Хлопнула дверь, повернулся со скрежетом ключ. Бросившись к закрытой двери, я, прижалась ухом к замочной скважине и услышала тяжелые, равномерные удаляющиеся бабкины шаги. Бросилась на кровать, зло зарыдала. Там как раз – сегодня, в клубе танцы. Нас, конечно, пока всерьез не принимали, но, подпирая часами стенки, мы строили глазки, как своим сверстникам, так и взрослым парням. И туда заглядывали цыгане.
Рамен… Рамен! Надо было спасать положение. Прорыдав минут пять, я вытерла глаза и поняла, что дура. Окно! В него можно было спокойно катапультироваться и, оказавшись на свободе, пересидеть грозу в лопухах Женькиного огорода. А там, бабка, глядишь и оттает, и все нормализуется. Я полезла на подоконник, пыхтя от натуги, но ставни с грохотом захлопнулись, упала задвижка. В комнате стало темно и тихо. Это был конец! Я поняла, что век воли не видать…
…Яблоко раздора, в прямом и переносном смысле этого слова, лежало на столе, на маленькой тарелочке, украшенный тоненькими крестиками, и отсвечивало восковым розовым бочком. Дед принес его сегодня из церкви и, судя по всему, противный, толстый поп с глазками-щелками, которые почти не открывались, когда он читал свои проповеди тонким голосом, сложив руки на животе под резным крестом, окропил его водой, размахивая веником сомнительной чистоты. Яблоко полагалось съесть, причем не просто, а, перекрестив рот. Перекрестить рот! Это мне, пионерке, без пяти минут комсомолке! Которая все ле-то учила наизусть заветы нашей великой партии и во сне видела тщательно выглаженную лямку своего черного фартука с крылышком, на которой сияет комсомольский значок. Нет! Настоящие комсомольцы никогда не сдаются и не предают великих идей. Чтоб оно сгнило, это поганое яблоко. Я бросилась на кровать, лицом в подушку и решила умереть. Лёжа!
…Когда я открыла глаза, резко, как будто меня толкнул в бок, в комнате уже совсем стемнело и только через щели закрытых ставень проникали острые лезвия лунных лучей и реза-ли темноту на плотные куски. Один из лучей так ярко освещал чёртово яблоко, что оно казалось нереальным, и как будто висело в черноте, подвешенное на невидимой верёвочке. Но проснулась я не от света… Откуда-то, со стороны улицы, раздавался странный звук, вроде водили щепочкой по дереву. Глухой, скрипящий, но не неприятный, мягкий.
Я вскочила, судорожно натянула на занемевшие колени смятый сарафан, поправила всколоченные волосы, кое-как стянула их резинкой.
Звук затих, потом кто-то осторожно постучал. Теперь, когда я совсем очухалась, стало ясно – стучат в ставень.
– Кто здесь? Чего надо?
Я была, конечно, слегка трусовата, особенно в темноте, но комсомольская ярость еще не улетучилась, и я не испугалась. Глаза уже привыкли, я поискав какое-нибудь оружие, ничего лучше, чем здоровенная мухобойка, не нашла. Поэтому, взяв ее наперевес, подкралась к окну. Тщательно сделанная де-дом гладкая, толстенькая палка точно легла в потную ладонь, а тяжеленный кусок резины на конце, которым можно было убить не только муху, но и пару ворон, живших на старой березе, внушал уверенность. Притаилась, вслушиваясь в ночные звуки и, поняв, что враг пытается открыть задвижку, приготовилась к бою. Ставня отскочила, я со всей дури замахнулась, но в последний момент, вдруг узнав владельца буйных кудрей, чья голова так красиво вырисовывалась в проеме окна, ойкнула. И почувствовала на своем запястье сильные пальцы.
– Ты же, красивая, убьёшь так. А молиться не станешь. Сгинет душа-то.
Рамен стоял прямо между мной и сбесившейся луной, а вокруг его головы сиял кудрявый ореол. Лица было не видно, но даже по голосу, я слышала, что он улыбается.
– Давай, вылазь. Ты ж хотела в клуб?
–Так поздно, Ром. Бабка узнает, убьёт. А баба Аня матери напишет. А мама не разрешала с… цы…
Я вовремя заткнулась. Рамен молчал, и хотя я не видела его глаз, взгляд обжигал мне кожу, где-то в районе переносицы.
– Пошли, радость, не бойся. Такая ночь. Ту миро ило*
***
Сколько было тогда Рамену? Шестнадцать, не больше. Мальчишка совсем, пацаненок. Но цыганские мужчины так рано взрослеют, и мне, избалованной маминой дочке, еще по-козлячьи скакавшей с подружками в классики, и лишь мечтающей о любви, он казался очень взрослым. Да и вел он себя не как мальчик, он давно созрел для взрослой жизни и кровь, горячая цыганская кровь уже бурлила, гнала, заставляла искать себе пару, чтобы вить гнездо. Я этого не понимала, но чувствовала, и то, о чем говорил дед Иван, прищурясь и чуть подняв бровь «Романо рат вас, что ли зовет» – звало. И я выскочила в окно, прямо в руки цыгану, стараясь, правда не особенно опираться о его теплую ладонь. Выскочила, быстро отпрыгнула, поправила лямки сарафана и растрепавшийся хвост.
– Пошли! В клуб!
– Там шумно, людей много. За реку пойдешь со мной? Посидим на бережку, смотри звезды какие. Дэ васт. На дарпэ. Тэрэ якха сыр чиргиня.
Я ничего не понимала, но судя по тому, как трепетало у меня внутри, он говорил что-то запрещенное. Да и мама… предупреждала… Да и…
Но я пошла…
***
Уже светало. Становилось прохладно, августовские ночи остывали быстро, особенно на берегу. Первые петухи пробовали хрипло самые высокие ноты, пахло дождем, низкие серые тучи почти ложились на потемневшую воду нахмурившейся реки. Мы брели по совершенно пустым, тихим улицам, держась за руки и я понимала, что повзрослела. Сразу, резко. В одну ночь. И хоть ничего особенного не произошло, просидев над рекой до утра, проговорив всю ночь обо всем и ни о чем, мы даже не целовались – что-то изменилось. Мир стал другим, краски вокруг проявились ярко и сочно, как будто кто -то протер пыльное окно.
И слова «романо рат» вдруг перестали быть для меня пустым звуком.
– Закончишь восьмилетку, сразу сюда!
Голос Рамена уже был совсем другим, не нежным и ласкающим, а твердым, настойчивым и немного резким.
–Я поговорю со своими, мы придумаем, как и что сделать. Ты не чужая, примут. Главное, мать уговори. Скажи ей – мне по-другому не жить! Она побоится, отпустит.
Он что-то еще говорил, но я почти не слушала. Представить мамино лицо с огромными зелеными глазищами, побледневшее от известия, что ее Ирка уходит в цыганскую семью, я не могла. И я молчала…
***
– Иды быстренько. В хату, Анна шоб не видала тэбе. Баба Поля, как большая черная птица, загородила меня крыльями от приоткрытой двери баб Аниной комнаты, пропуская дом.
– И сиды тихо. Не вылазь. Она не видала, як ты шлындрала.
Я мышкой просидела в комнате до завтрака, потом скромно ела блинчики, не поднимая глаз. Баба Аня смотрела подозрительно на вдруг, неожиданно ставшую смирной, внучку, но ничего не говорила.