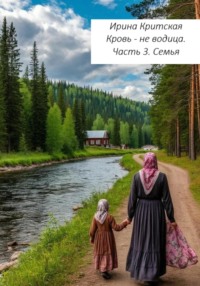полная версия
полная версияДа воздастся каждому по делам его. Часть . Ирка
Но бабушка сбила тон:
– А ты еще дочь её привечаешь. И с Иркой позволяешь дружить. Да еще и так наказываешь собственное дитя. А у Оксанки этой уже сейчас глаз блудливый. Вылитая же мать, копия.
Баба Аня стала говорить громче, я совсем проснулась. Голова болела все сильнее, я легла на диван, чувствуя, как тянет ноги ломотно и неприятно. Болело горло так, что я не могла глотнуть и, пытаясь позвать маму, просипела:
– Мааа. Мааа.
Никто не слышал и мне показалось, что я одна. На всем свете…
***
Как я обожала болеть. Сейчас, когда уже спала температура, но все еще от малейшего движения меня бросало в жар, мне разрешили лежать в мам-папиной спальне, на огромной душистой кровати с белоснежным, гладким, холодящим бельем и читать Большую Советскую энциклопедию. Энциклопедия была тяжелой, как гиря, но я все равно, с трудом вытаскивала её из тесноты шкафа и тащила на кровать, запыхавшись от усилий.
Баба Аня ругалась «неслухом», но подкатывалась ко мне тёплым шариком и подтыкала одеяло со всех сторон, подсовывая подушку под плечи. Потом чистила мне апельсин, делила его на дольки и включала шикарный мамин торшер из золотистых шаров, нанизанных один на другой. Я читала все подряд, но особенно меня занимали медицинские статьи с картинками. Особенно, там, где все в разрезе. Я подпихивала книжку поближе к свету и внимательно изучала извитые дорожки сосудиков, изгибы костей и что-то еще, непонятное и завораживающе-пугающее. Потом приходила мама, снимала в прихожей шубку и через полуоткрытую дверь врывался запах снега, свежести, цветов и еще чего-то, запретно-приятного. Она подходила ко мне, и наклонялась, коснувшись губами лба. Потом трогала щеку прохладной, мягкой ладошкой и гладила по голове. А вечером долго сидела у меня в комнате на кресле и читала мне вслух.
***
– Тссс. Ирка спит, не шуми. Она сегодня первую ночь не бухыкала, сейчас разбудишь, начнет кашлять опять. Господи! Ты чего-ж датый такой с утра! И куда ты такую-то припер. Как ставить будем? Где ж ты взял её, а?
Я медленно выныривала из ночи. И выныривание это было жутко приятным, потому что одновременно мне вспоминалось, медленно и тягуче, куда вчера вечером, закутавшись, как дед Мороз в тулуп, напялив старые дедовы валенки и смешную мохнатую шапку (пыыыыжик – тянула мама, хихикая) ушел папа. Он ушел дежурить в наш хозяйственный магазин за лесом. А туда должны были привезти елки. Мама рассказала мне, что если папа с мужичками, под бутылочку, разгрузят машину с елками, то всё может быть, и одна красавица будет наша.
Я вскочила и, прямо босиком, в рубашке, бросилась в коридор. А коридор заполнял запах. Безумный, яркий, свежий лесной аромат ворвался в нос, закружил голову и я, чихнув пару раз, гикнула радостно и, проскочив пьяненького папу и испуганно посторонившуюся маму, влетела в зал.
Она! Занимала! Всю комнату! Темная, пушистая, мохнатая. Такая красивая, что я села на пол, рядом с елкой, взяла ее за колючую лапу и заплакала.
Глава 4. Наказание
– Баб. Зима когда кончится? Я весну хочу. А баб?
Мы с бабой Аней брели в музыкалку по тоненькой тропке, проложенной через огромные сугробы на пустыре. Ветер нес острые колючие снежинки, хлестал ими по лицу, лез за воротник и в рукава, лепил по коленкам и даже задувал в валенки.
– Будет тебе весна, вон смотри лучше, как красиво вокруг.
Мне набивался снег в рот и в нос, отвечать было неохота, и красоты особой я не наблюдала в сплошной круговерти снега. Жутко замерзли ноги, и очень хотелось ныть. У нас с бабушкой эта дорога в музыкальную школу вообще была довольно тернистой. Сначала мы шли через небольшой лесок у окружной дороги, потом через пустырь до автобусной остановки. Там, у самого пустыря, была конечная остановка автобуса. Одинокая будка с поломанной крышей и изрисованными стенками, конечно, прикрывала редких пассажиров от ветра и непогоды, но автобус ходил так редко, что мы успевали продрогнуть до костей. Чуть согревшись, мы пересаживались на второй автобус, он был уже поудобнее, совсем городской. Правда, моя бабуля не искала легких путей, а искала коротких, поэтому мы выходили снова, именно у леса. Вернее – у маленького лесочка, в черноту которого вела разбитая мощеная дорожка, почищенная от снега лишь кое-где. Мы лезли по колено в снегу, пыхтя и отфыркиваясь, как два кита. Дорожка упиралась в скрипучее крылечко с заднего двора старой, деревянной школы. За школой было кладбище и я, приседая от ужаса, держалась за бабушку крепко, вцепившись в мокрый подол пальто. Но зато можно было на переменках вечерних занятий отлично пугать уборщиц, изображая крик ночных сов хорошо поставленными на уроках хора голосами. Да и привидения – это вам тоже – не фунт изюма.
– Аааууу, ииииуууу.
Бритый под ноль Вадим, похожий на табуретку с короткими ножками, лучший ученик, солист школьного хора, трубно завывал из темного угла под лестницей. Я хлопала раскрытой тетрадкой по нотной папке, изображая звук крыльев страшной ночной птицы, и тоже подвывала тоненько.
– Иииииуу, иииии
– Чтоб тебе, нехристище.
Уборщица замахивалась на нас плохо отжатой тряпкой. Мы прыскали в стороны, а грязная вода стекала на крашеный пол, образовывая мутные лужицы.
***
Длинные уроки фортепиано я ненавидела яро. Разбегающиеся и сходящиеся гаммы были тягучими, резиновыми, хроматические ломались в самом неожиданном месте, подло и неожиданно. Мой педагог по фортепиано, грозная Ирина Петровна (Извергиль, как называл ее папа) беленела, норовила врезать мне по пальцам корешком дневника и швыряла ноты в угол. Ноты шелестели и влажно брякались на пол, а я обитой собачкой плелась за ними и несла их назад. Я никогда не рассказывала маме об этом, предполагая, что узнай она – от плотно набитых в войлочную башню извергильских волос не останется и клока. Но зато потом было сольфеджио. А на нем, тоненькая, стройная, похожая на танцовщицу из Андерсена, Венера Игоревна творила с нами волшебство. По мановению её тонких пальцев мы вдруг превращались в звуки. Взмах – и тягучая, протяжная нота чудом возникала откуда-то из первого ряда, еще взмах – нежнейший звук из второго, и вот уже полновесный аккорд заполнял нас до краев. И тоненькое пициккато, которое тренькали две сестрички-близняшки остренькими голосами щекотало где-то у самого сердца.
А потом еще можно было пугануть бабушку. Выждав, когда схлынет поток музыкальных гениев, прокравшись незаметно в тесную, полутемную раздевалку, я прыгала на нее сзади и верещала страшным потусторонним голосом. Баба Аня каждый раз пугалась, грозила мне маленькой ручкой, а морщинки на её полном, яблочно-розовом лице играли, собирались и разбегались снова, как тоненькие лучики.
Самым же большим счастьем, редким моим подарком судьбы было пойти в музыкалку с мамой. Там, из гордой, недоступной, всё знающей и строгой учительницы, она вдруг становилась маленькой и растерянной. Внимательно выслушивала упреки Извергиль, послушно кивая головой (и только по ее, обычно пухлым розовым губам, вдруг сжимающимся в тонкую, злую линию, я понимала, как ей трудно сдерживаться). Неловко примостившись в самом уголке толпы мам, переписывающих задание, вывешенное в коридоре на пыльном деревянном стенде, она вставала на цыпочки, и ежеминутно поднимая очки повыше, близоруко щурясь, быстро писала кривые нотки в моей толстой тетрадке. А я стояла сзади и гордо крутила головой. Мама была самой красивой из всех теток, полной, белой, нарядной и душистой. У нее в ушах и на руках с яркими ноготками сверкали украшения, а рыжие волосы были собраны высоко и пышно. И, заметив какого-нибудь противного дядьку, уставившегося на моё сокровище, я тут же вбуравливалась между, прикрывая ее своим телом.
– Мам! Ты опять подслушивала? Тебя же ругали, вон ты наследила на полу.
Мама смеялась, стаскивая с головы пушистый шарф, весь в таящих искристых снежинках и вытирала ноги о расстеленный половичок.
Каждый раз, когда у нас начиналось сольфеджио, она выскакивала на улицу и под окном, вскарабкавшись на пень, слушала наше пение. Ей очень нравилось. Я это знала, и всегда старалась заглянуть за занавеску, мне казалось, что я вижу, как блестят её глаза, и даже слышала – она подпевает. И уже совсем поздно, после занятий, сойдя с автобуса на конечной остановке, мы с мамой, взявшись за руки, размахивали ими, как маленькие и орали на весь лес арию Ленского.
– Падууу ли я, – звонко кричала мама, а с деревьев осыпался снег, мягко плюхаясь на дорожку. – Стрелой пронзенный,– вторила я, стараясь перекричать, срывалась и хрипела…
***
– Баб. Ты мне платье погладь. А то у мамы там сегодня собрание, про цирк. Она поздно придет. А?
Бабушка странно посмотрела на меня, подвинула поближе кашу и хмыкнула.
– Я-то поглажу. Чего не погладить. А ты кашу вон ешь. Не усугубляй.
Слово «усугубляй» мне представилось противным губошлепным зверьком, и я ничего не поняла. Запихнула в себя кашу, помыла тарелку, и, схватив наглаженное платье, убежала к себе. На улице мело так, что стекло казалось белым, вроде его облили молоком. Я задернула шторы, аккуратненько развесила платье и тихонько вышла в коридор. В пустой квартире было тихо, прохладно и темно. Бабуля дремала в кресле, я на цыпочках прокралась мимо неё, в зал. В самом углу большой комнаты стояла елка. Вчера мы с мамой вдвоём, целый вечер наряжали ее, весело и дружно. Правда, быстро кончились игрушки, но мама жестом фокусницы достала разноцветные пушистые мотки ниток, и мы быстро навертели кукол с торчащими в разные стороны руками и косматыми головами. А потом клеили кольца из блестящей бумаги, превращая их в длинные цепочки с неровными звеньями. В них запутался, вернувшийся к ночи с работы папа, и мы долго отдирали свою красоту от его штанов, хихикая и толкаясь.
***
Уже неделю ощущение щенячьего счастья не покидало меня. Новый год был совсем близко, и суматошно-радостное предчувствие сказки кружило мне голову. А тут ещё завтра мы идем в цирк. Господи! Как я мечтала о нём. Как я любила этот запах, замешанный на чем-то молочно-сладком с примесью опилок и еще чего-то звериного, тайного. Когда гасили свет и зажигали огни, мне хотелось затаить дыхание и взлететь туда, к куполу, взмыть птицей и навсегда остаться там. В первом же номере я начинала плакать, сама не зная почему, мама хмыкала, улыбалась и вытирала мне нос белым, жестковатым платочком. Потом обнимала, чуть прижав к себе…и то, что происходило там, внизу, на арене становилось нашей тайной.
Забравшись почти под елку, скрутившись калачиком на мягком ковре, вдыхая аромат хвои и конфет, развешанных по широким, темным лапам, я представляла себе – сверкающими стрелами взмывают к куполу гимнасты, вздрагивают, когда фокусник втыкает в них нож красавицы. Я улыбалась, разглядывая клоуна с черной собачкой. Все было, здесь, рядом. Почти наяву…
***
…Проснулась я от того, что яркое зимнее солнце защекотало мне щеку. Я вскочила, проверила, на месте ли платье, и с ужасом посмотрела на часы. Представление было утренним, проспать -не просто невозможно, это подобно смерти. Вылетев на кухню, я, быстренько чмокнув всех, уселась за стол и придвинула тарелку. И тут поймала странный мамин взгляд. Она смотрела мне прямо в лицо, серьезно, без улыбки. Глаза у нее уже были подкрашены, длинные красивые стрелочки их удлиняли, и она была немного похожа на кошку из соседского окна – рыжую, пушистую и надменную.
– Ира. Ты разве забыла, что в цирк мы сегодня идем без тебя?
Кусок батона выпал у меня изо рта, я уронила чашку и молоко водопадом ринулось со стола, залив мне тапки. Баба Аня вскочила и полотенцем попыталась спасти положение, но я, неловко развернувшись к маме, перевернула и ее чашку, попутно задев локтем папин стакан. Но мне было на все это уже наплевать, я стояла и молча смотрела, как наш красивый утренний стол превращается в помойку и не шевелилась. Я даже не плакала. Я просто, наверное, перестала дышать.
***
Пришла в себя я от того, что бабушка промакивала мне воспаленную физиономию холодным, мокрым платком и внимательно её рассматривала. Первый раз в её глазах я видела укор:
– Ну ты и вопила, дорогая. Как ослица.
В жизни бабушка не говорила своей «единственной внучечке» таких слов. Но я их точно заслужила, потому что вдруг, чётко вспомнила истерику, которую устроила. Ужас потери, разочарование, обида – все хлынуло в мою бедную голову, и я думала только об одном – пойти! Пойти в цирк любой ценой! Я ползала и орала, цеплялась за мамины ноги, объясняла, обещала и снова орала. Но мама была неумолима. Отцепив от себя мои дрожащие, мокрые руки, она холодно посмотрела на меня:
– Ира, за свои плохие поступки надо учиться отвечать. Достойно. И уважать себя.
***
Дверь приоткрылась, и я узнала эту осторожную тень. В мою скорбную комнату проник свет из коридора и хитрый глаз. Папа…
– Ну что, Голяп? Ты как тут? Я, знаешь, тоже не пошёл. И вот что еще… Хотел на Новый Год, да ладно!
Он подошел ближе, и я увидела, что у него в руках чуть поблескивают новые, маленькие хорошенькие коньки.
– Ну-ка вставай. Пошли учиться…
На пустыре перед домом, была огромная замерзшая лужа. Папа держал меня крепко. и я плыла, как Одиллия и Одетта, купаясь в свете только что выглянувшей луны. Боль тихонько стихала, обида и недоумение чуть-чуть разжали хватку, и я уже могла свободно дышать.
– Знаешь, Голяп. Мама держит слово. Всегда. Как ты думаешь —это плохо?
Я молчала…
Глава 5. Юрка
Гад Юрка уже замучил нас с Маринкой до смерти. Последний класс начальной школы подходил к концу, мы чувствовали себя уже очень взрослыми девицами, а этот поганец нас не принимал всерьёз, просто вообще, в принципе. Особенно страдала Маринка, моя новая подружка – крохотный гномик с круглыми желтоватыми глазками без ресниц и длинными толстыми косами. Эти косы были постоянным предметом вожделения наших мальчишек, и один раз у нее чуть не оторвалась голова, когда Юрка прище-мил пушистые хвостики с бантиками между партой и стулом. Маринку тогда вызвали отвечать, она резко вскочила, голова дернулась, подружка завалилась назад, плюхнулась на скамейку, и заревела. Наша РаисПална нарисовала жирную двойку по поведению в Юркином дневнике, но это давно не производило на чёртова двоечника никакого впечатления. Красивые, каллиграфически выписанные лебеди гордо плыли по глади истрепанного дневника этого балбеса стаями, он пытался срезать им головы тоненьким лезвием, но руки-крюки прорезали в страничках противные, предательские дыры. А вот и так мерзкий Юркин характер от этих двоек только ухудшался, он каждый день выдумывал все новые гадости, и фантазия его была неистощима. Мы вытряхивали из своих пеналов дохлых мух, раздирали тетрадки, склеенные намертво между собой страницами обложек, доставали из чешек, оставленных в раздевалке во время. физкультуры жёваные мякиши хлеба, выпутывали из волос комки какой-то дряни, которой этот паразит метко пулял из специальной трубочки.
Однажды, впав в отчаянье от очередной проделки, хлюпая носом от обиды, я побежала к маме в класс. Сопя и перебивая сама себя, долго рассказывала, преувеличивая и усугубляя детали поганого Юркиного характера.
– И он сказал, что я толстая и платье у меня мятое…На ж… пе!
Это был последний и самый страшный аргумент. Тут мама точно должна была ужаснуться Юркиной грубости, сразу проникнуться и защитить меня от него навсегда.
Мама сидела прямо на столе и внимательно рассматривала мою, горевшую огнем физиономию.
– Так он прав,
Взгляд мамы скользнул по моему и вправду поплотневшему последнее время тулову, я попыталась втянуть пузо, но оно не втягивалось.
– Ты стала много сладкого есть, и – результат! Кто за диван вчера штук двадцать фантиков натолкал? А апельсины все, кто перетаскал, на неделю купленные? И крошки от батона в постели не у меня ведь? А?
Она смотрела серьезно, но глаза у нее смеялись и искрили озорными лучиками.
– Ну-ка, подойди ко мне.
Она притянула меня за руку поближе, и растянула широкий подол моего платья.
– Надо же… Абсолютно мятая ж… па! Ведь не врал. А то, что у тебя воротничок серый, вместо белого – он не говорил? Вон, посмотри.
Она вытащила зеркальце и в глубине чуть мутного стекла я увидела щекастую физиономию, уныло нависающую над грязноватым воротничком.
– Ты воротничок новый пришей, который я тебе еще в воскресенье дала. Платье погладь. И туфли помой с мылом. Я тебе ведь не зря их вчера на стол поставила, а ты их спрятала под диван. И увидишь сразу – мир изменится.
Я недоверчиво посмотрела в её хитрые глазищи.
– Точно-точно. Проверено. И еще, знаешь что?
Она притянула меня совсем близко, взяв теплыми пальцами за ухо и щекотно шепнула:
– Тайну хочешь, открою? Он в кого-то из вас втрескался. И судя по этому, – она, больно потянув меня за хвостик косички, вытащила жеваный комок бумаги из волос, – В тебя! Точно.
Я покраснела. Постояла в нерешительности, вытянула из-под маминого белого, пухлого локотка зеркало, старательно пригладила растрепавшуюся челку и, завязав покрасивее бант, пошла к дверям.
– Ирк! Постой. И запомни – жаловаться больше не смей!
Я обернулась. Мама по-прежнему сидела на столе и даже болтала ногами, как девчонка.
– Узнаю, что жалуешься, уважать не буду. Поверь- не буду совсем. Разбирайтесь сами, без взрослых. Ябедничать – последнее дело.
Я-то, конечно, согласна была с мамой, но Маринка ныла и бегала жаловаться каждый день, по сто раз. И РаисПална, отчаявшись, применила последнюю меру наказания. Она вызвала Юркиного папу на общее собрание. Это жуткое изобретение, под названием «Дети + родители», любили устраивать у нас в школе. В зал набивались многочисленные родственники учеников, и учительница вела диалог между нами и нашими родителями в присутствии всех. Собраний этого боялись все, даже отличники, причем ругали нас редко. Чаще хвалили, поздравляли, вручали грамоты, рассказывали об успехах. А тут…
Крепкий, похожий на старый деревенский дуб, в верхушку которого прошлым летом попала молния, суровый Юркин отец сидел на первой парте молча, опустив голову. РаисПална грустно переворачивала странички многострадального дневника, показывая на просвет дырки и зачитывая многочисленные, красиво и печально написанные замечания.
Юрка сидел рядом с отцом, смотрел в парту, иногда ковыряя пальцем на отполированной деревяшке, что-то, видимое ему одному. Его голова – бритая круглая, скорее даже овальная, вроде дыни, положенной набок, подпрыгивала от каждого РаисПалниного слова. Затылок покраснел, и можно было представить, какого цвета были щеки. Наверное, как свекла, которую мама варит на винегрет.
– Скажите, Виталий Андреевич. Вот, я вижу, везде есть чья-то подпись, под каждым замечанием. Это ваша?
РаисПална подошла к папе поближе и сунула ему под нос Юркин дневник. Юрка набычился и засопел.
– Это я не видел, Раиса Пална,
Юркин папа загудел басом, и покраснел, не меньше сына. По его мощной шее градом стекал пот, он сжал руки в кулаки, размером с арбузики-мурашки, которые мой прадед засаливал в бочке,
– Это жена пишет. Читает, вернее. Подписывает, то есть, прочитавши…
Он совсем запутался, и вдруг, не с того не с сего врезал Юрке здоровенную затрещину. У того мотнулась голова, и он гундосо заревел, вытирая нос грязными, чернильными лапами.
– А дома еще схлопочешь, паразит. По первое число. Я тя воспитаю.
– Виталий Андреевич. Нет! Разве это метод?
РаисПална запищала тоненько и испуганно, хотела вытянуть Юрку из-за парты, но Виталий Андреевич впал в раж, и добавил сыну ещё, уже вдоль спины.
Собрание было сорвано. Юрка ревел в голос, а РаисПална безуспешно тренькала колокольчиком. Мы с Маринкой злорадно хихикали на задней парте, пока стоял шум, и все успокаивались. Наконец затихло, и РаисПална обратилась к нам:
– Вот девочек еще обижает. Вчера он прибил Мариночкин учебник к парте гвоздиками. Правда, Марина?
Маленькая Маринка вскочила и звонко ляпнула на весь класс:
– А ещё, он меня в мальчуковый туалет за руку затаскивал. И дверь хотел закрыть, я еле вырвалась.
Настала зловещая тишина, в которой резко прозвенел звонок…
***
Радостные вопли наших классных дурачков меня уже замучили, и я, прижав в груди свой заветный песенник, забралась в самый уголок дальней полупустой рекреации на втором этаже. Здесь казалось намного тише, этаж старшеклассников был под негласным табу для нас, малышей, но, спрятавшись за кадку, спокойно можно было пересидеть шумную перемену, и даже переписать новую песню, которую притащила мне Оксанка.
«Ах, васильки, васильки, сколько вас выросло в поле»… Я, почти каллиграфическим почерком, выводила круглые буквы, еле уместив тетрадку между подоконником и неловко выпяченной вперед коленкой. Надо было нарисовать еще васильки, а для этого у меня был замечательный, успешно спертый у Лешки, начальниковского сынка, голубой, ненашенский фломастер. Такого оттенка ни у кого, кроме Лешки не было, я его тихо вытянула у него из красивенного пенала с мотоциклами и спрятала в карман. Он заметил – я точно видела скошенный голубовато-зеленоватый глаз, но промолчал, и даже отвернулся. Как будто нарочно. Точно – тоже втюрился, девчонки не зря хихикали.
Я высунула от старанья язык и ускорила темп, потому что уже кончалась переменка. «Помню у самой реки, их собирали…». Собирали-то их для Оли, но до Оли я не дотянула, потому что из дальнего угла коридора вдруг раздался визг и знакомый, писклявый вой. Маринка! Рванув со всех ног, я одним прыжком проскочила рекреацию, и в толпе старшеклассников заметила толстую спину Юрки. Он стоял в углу, около дальней двери и делал какие-то странные движения руками, как будто доил корову. Только вот голос у той коровы был знакомый.
При ближайшем рассмотрении картина оказалась плачевной. Маринка стояла, зажатая между круглым Юркиным туловом и стенкой, согнувшись и мерно мотая головой. Приглядевшись, я поняла, что он, крепко стиснув в кулаках кончики Маринкиных кос, в ровном ритме дергает за них – из стороны в сторону. Причем дергает, похоже, давно, потому что у Маринки раздулся нос, опухли глаза, и она стала похожа на Ниф-Нифа. Гордые старшеклассники дефилировали мимо, практически не обращая внимания на мизансцену, и только пара олухов из восьмого А, стояли рядом, ржали и отсчитывали ритм. Как-то в один момент во мне образовалась бесстрашная и злая сила…Я сразу решила, что надо делать. Сунув песенник в карман, я отошла подальше и, с разбегу, тараном врезалась в мягкий Юркин бок, одновременно лягнув его под коленку. Гад отлетел в сторону, врезался в томную девицу из десятого, та поскользнулась на гладком школьном линолеуме и грохнулась поверх Юрки почти плашмя.
Пользуясь заварухой, я схватила совсем обалдевшую Маринку за руку, и мы понеслись ней в сторону девчачьей физкультурной раздевалки, сметая всё на своем пути. Заветная цель была уже близко, вместе с нашим спасением, и тут я услышала топот. Юрка нас догонял и, судя по распаренной физиономии, сосредоточенно насупленной и красной с самыми серьезными намерениями. Маринка даже побледнела, завыв в полный голос, и я поняла, что у нас один выход – вверх, по лестнице. Там, почти на чердачном этаже, маленькая раздвалочка была вроде секретика-скворечника. Мальчишки там не ходили. Я тычком протолкнула Маринку вперед, она взлетела испуганным воробьем, и скрылась за дверью. Я, уже на последней ступеньке обернулась и увидела, что Юрка, злющий, как черт подскочил к лестнице и сворачивать не собирается. Тогда, видя, что карта наша бита, а в руках у гада здоровенная, железная линейка, неизвестно зачем прихваченная, я схватила чей-то валяющийся портфель и сбросила его вниз. Юрка присел, и закрыл голову руками. Сквозь пальцы потекла кровь.
Глава 6. Гаммы
Сказать, что меня обуял ужас – не сказать ничего. Внутри лопнул какой-то пузырь, из которого ледяной воздух хлынул в живот и голову, и я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Кожа стала холодной и липкой, в глазах замелькало и я вцепилась в перила, чтобы не упасть. По пустому коридору разнесся трубный вой, из физкультурного зала выскочил физвозник, и я поняла, что часы мои сочтены. Как через мутное стекло, я смотрела, как собирается народ, как обтирают Юркину лысую башку ватой, а потом бросают эту вату прямо на пол, и она лежит кроваво-белой кучей, страшная, словно в кино про войну. Как прибежала медсестра, и ее белоснежный халат светится в мутном свете коридора перламутрово и странно. Мне всё казалась нереальным, далеким, вроде и происходящим, но не со мной. Или во сне…
Потом всей толпой повели куда-то Юрку, он уже не трубил, а гнусаво хныкал, но я почему-то слышала это хныканье даже резче, чем рёв. В голове у меня звенело, я почти ничего ее соображала и даже не заметила, что по лестнице поднялась мама. Она твердо, прохладной рукой сжала мою кисть и потащила вниз – быстро, практически волоком.