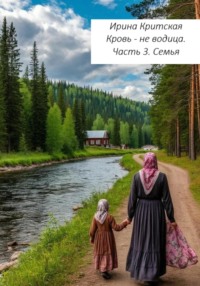полная версия
полная версияДа воздастся каждому по делам его. Часть . Ирка
Мы с Оксанкой сидели на своей лавочке. Темнело, московская осень уже заняла город, укрыв его толстым покрывалом рано облетающих кленовых листьев. Пахло грибами и холодом, который уже потихоньку присматривался к улицам и скверам, чуть хватая по утрам хрусткой корочкой лужи. Мне всегда было грустно осенью, хотелось плакать, писать стихи про кровь-любовь, или бежать куда-нибудь в теплые страны, закусив удила. А тут еще Оксанка уезжает. Как жить? У меня текли слезы, почему-то больше из левого глаза, того, что ближе к подружке и я вытирала их растянутым рукавом кофты.
– Не нюнь, Ирусь. Я у бабки годик поживу, мне там лучше будет. Замуж выйду, там есть один… тракторист. Ничо так, здоровый жлоб. У него хата. А потом сюда… Посмотрим, в общем. А то, щас – прям встать некуда, не то что сесть. Теть Людины детки припрутся, так я на табуретке весь вечер, как курица на насесте. Не, не могу… поеду я.
Я смотрела на Оксанкин профиль, красивый, точеный и понимала, что мне её не уговорить. Она всегда-то была старше, хоть и не по возрасту, а теперь, когда после неудачной беременности вдруг поправилась, подстригла свои густые волосы коротко и стильно – стала совсем взрослой. И… не моей Оксанкой. Совсем не моей. Я осталось там где-то, смешная и неповоротливая девчонка, а грустная, все понимающая женщина покидала его… наше детство.
***
– Ир. Вот это Оксане передашь. Только тихонько, чтоб дядь Толя не узнал. Отнимет.
Мама уходила на работу, но, остановившись в дверях, поманила меня пальцем и протянула большой конверт. Строгая, в темном костюме с бежевым, атласным платком на шее, заколотом перламутровой камеей, она была похожа на актрису с баб Аниной открытки, Только я не помнила – на какую. Высоко поднятые, пышно взбитые волосы открывали лоб. Розовые уши просвечивали насквозь и были украшены такими же, как брошь, камеями, только поменьше. От новой модной помады её рот, и так не маленький, казался еще больше и ярче. Да еще глаза… В жизни она так их не красила.
– Мам, ты чего такая?
– Подожди, я не договорила. Потом об этом. Так вот, там деньги. Их не мало. Поэтому, пожалуйста аккуратнее, ты уже взрослая кобылка. И Оксане скажи, чтоб внимательнее была. Хотяяяя… эта не потеряет.
– А зачем ей?
Мама посмотрела на меня, как на дурочку, был у неё в арсенале такой взгляд – жалостливо-понятливый.
– Деньги зачем? Жить. А зачем же ещё.
Действительно, я даже растерялась. Зачем же еще… Правда я не понимала, почему, когда вчера я выпрашивала новые модные джинсы, с трудом налазившие на мою задницу, но все -таки чудом налезшие, то денег не оказалось. Я было обиделась, но мама так уверено сунула мне конверт, что я заткнулась, посчитав вопрос дурацким.
– На твой второй вопрос – отвечаю!
Мама уже смеялась, красотки на камеях покачивались и тоже хихикали,
– Твою мать! Дочь моя! Пригласили на работу в Останкино. В кино!
Я ошалело смотрела на маму, понимая, что ничего не понимаю.
– Да, да, да. Один очччень интересный режиссер посчитал меня необыкновенно талантливой.
Она поправила пышную прядь, выбившуюся из прически и показала мне язык в зеркале.
– И красивой!
Победно взмахнув модной лакированной сумкой, мама развернулась на своих высоченных каблуках и ушла. Каблучки, процокав по плитке коридора, затихли.
– Вот, вот…. Голяп… Представляешь? Артисткой будет…
Папа стоял сзади, в дверях большой комнаты. В тапках, в растянутой футболке, немного лысоватый – добрый мой, любимый папа, был растерян и грустен. Потерян даже…
– Да ну, пап. Какой еще артисткой! Она сбежит к детям через неделю. Не дрейфь.
Папа пожал плечами, повернулся и непривычно сгорбился, втянув голову в плечи, вдруг став сутулым и маленьким. Снова пожал плечами и, чуть шаркая, побрел по длинному коридору на кухню. Через минуту загудела дрель.
***
В огромной, пронизанной холодным октябрьским солнцем аудитории, было полно студентов. Я неуклюже лезла, как в гору, на самые верхние ряды,
прижав к себе чертов школьный портфель.
– Нафига я взяла его, ведь мама сумку подарила, такую модную. Завтрак не влез, блин. С такой задницей, как у меня можно неделю на внутреннем топливе работать. А не завтраки с колбасой жрать…
– А у нас все дома, мадам, – с издевкой, громко, в полной тишине, сказал профессор.
У профессора была львиная седая грива, ну точно, как у всех профессоров. Он смотрел на меня, прищурив один глаз, видно так лучше концентрировалось в его поле зрения мое расплывчатое тело в идиотском платье с большим воротником.
– Извините, – хрипло просипела я и растеряно остановилась, не зная, куда идти дальше.
– Ну вы уж следуйте своим курсом, мы прервемся, пока вы не присоединитесь к нашему неинтересному занятию, – профессор сделал глубокую паузу, вскинул одухотворенное лицо и замер…
– Иди сюда, не стой под стрелой.
Резкий, гортанный голос прорезал хихиканье однокурсников, как ледокол мутный лёд. Я полезла по деревянной лестнице с невозможно высокими ступенями, споткнулась раз пять и никак не могла найти свободное место. Я, наверное, брела бы, пока не довела профессора до кондрашки, но кто-то дернул меня за руку и я, не удержавшись, плюхнулась на сиденье.
– Давай сюда, хва ползти, – голос был насмешливым, но приветливым.
Скосив глаза, я увидела нос. Нос был изящный, тонкий, но горбатый, при этом гордый, как у грузинов. Я осторожно повернула голову и растворилась в серо-зеленых, слегка раскосых смеющихся глазах. В них блестела легкая такая, неуловимая сумасшедшинка. Но парень был красив… И была в его красоте этакая ломаная, томная изысканность.
– Привет, – улыбнулся он, – Чего нахохлилась, как квочка. Меня зовут Сергей.
Сердце у меня приостановилось на секунду и сладко рухнуло, меня обдало жаром, как будто напротив распахнули дверь бани. И даже запотели очки. Я их зло сдернула и бросила на стол.
– Комплексуешь? – Сергей смотрел весело и испытующе, – Ну ну…
–Ничего я не комплексую! Отвали!
Фраза получилась беспомощной и злой, как лай.
***
– Ну… и…
Мама медленно мешала тоненькой ложечкой красивый, темно- янтарный чай в полупрозрачной чашке, вгоняя ломтик лимона в образовывающийся бурун. Сильно накрашенные глаза были такими красивыми, что мне вдруг стало не по себе. Я рядом с ней всегда казалась себе страшной, серой, неуклюжей.
– Он положил на тебя глаз? Почему рядом-то усадил?
– Не знаю я, мам. Там девчонки ополчились на меня, особенно, та, блондинка. Ну, ты её видела… Светка её зовут.
– И ты?
Мама тянула резину, она так всегда делала, когда хотела вытащить из меня что-то такое, чего я не знала сама. И у неё всегда получалось.
– А я сказала ему, чтобы отвалил.
– Ну и дура! Знаешь что! Давай их у нас соберем, всю твою группу. У меня записи есть, музыка такая, что у них челюсти отвалятся. И сделаем фуршет – по правилам высшего света! Я вот видела недавно, повторю, мне раз плюнуть. Все лопнут от зависти. Ты станешь заметной. Это важно.
– Не знаю, мам… Ты лучше скажи, тебя в кино взяли?
Мама погрустнела, даже лицо как-то сдулось, стало старше, темнее, как будто кто-то сыпанул на нее мельчайшую, пыльную пудру.
– Представляешь, Ирк. Берут! Но я не иду…
– Мам, ты чего? Это же в артистки. Это же здорово!
Я врала, а сама чуть не заревела от радости, как маленькая, но мама щелкнула меня по носу.
– Не в артистки, а в статистки. Посмотри на меня – ну какая я статистка! Я же королева подмостков…
Она снова улыбалась, той своей затаенной улыбкой, которую я не любила, боялась и никогда не понимала.
– Да и дети… и папа… Туда идти – всех предать надо. И тебя предать, куда деваться – там такая цена. У меня нет столько средств на эту плату…
***
Вечером мама с отцом уехали в Кремлевский буфет, где работала мамина «родительница» (так называла баба Аня всех мам школьников) за пирожными. Теми, необыкновенными, с белыми воздушными лебедями. Мама явно решила убить моих однокурсников насмерть, одновременно сразив сердце Сергея невиданными возможностями его избранницы. В квартире было пусто и темно, я слонялась по углам и не знала, чем заняться. Решив посмотреть старые мамины фотки, я взгромоздилась на табуретку, чтобы достать с верхней полки гардероба заветный кожаный сундучок. Все это фотки я знала наизусть, но мне никогда не надоедало рассматривать школьников и школьниц с такими знакомыми, но такими молодыми лицами. Как будто добрый волшебник коснулся их хрустальной палочкой и с них слетела, как шелуха с лука и усталость, и морщинки, и грусть. Я трогала лицо мамы-школьницы, оно было таким… прекрасным……
Сундучок застрял, зацепившись кованым уголком за здоровенный старый чемодан, я с силой дернула, и он выпал, глухо бухнувшись о ковер и развалившись на две части. Следом вылетел пакет с какими-то бумагами, а за ним маленькая сумочка, похожая на косметичку. Я никогда ее не видела, вернее раньше там её точно не было.
Мне почему-то стало страшно. Дрожащими руками я щелкнула круглыми защелками и достала свидетельство о рождении.
«Ирина Викторовна», было написано в нём.
Глава 12. Накидушка
Руки у меня дрожали, и я никак не могла засунуть назад эту штуку. Но когда все-таки справилась, наконец, застегнула молнию и села на кровать, ошалевшая донельзя, спасительная мысль пришла в мою бедную голову.
– Ошибка! В этом дурацком деревенском загсе просто неправильно записали отчество моего папы, им ведь все равно, вечно сонным клушам. Вот так, одна дура…
Продолжая возмущенно бормотать, я начала собирать остальные бумаги, которые валялись на полу, подобно подбитым выстрелами птицам. И, помимо желания, все-таки просматривала надписи, сама не зная зачем. …Свидетельство об удочерении я с силой закинула на самый верх, точно попав за чемоданы, вроде как всю жизнь занималась метанием свидетельств…
Кто-то зашебаршил ключом. Судорожно запихнув все остальное, задвинув сундучок с фотографиями на место, я, как воришка, прошмыгнула в свою комнату и плюхнулась за стол, тщательно пригладив растрепавшиеся волосы и «сделала лицо», как говорила мама.
– Ты что, Голяп, сидишь так одна, в темноте, не заболела? Иди. Я тебе тут от зайчика принес.
Чувствуя, что еще минута, и зарыдаю белугой, я выскочила в коридор, схватила шоколадку, мятую, теплую, почти растаявшую и, пряча горевшее огнем лицо, зарылась в папино плечо. Я уже знала – никогда, ни под какими пытками я не скажу ему о своем открытии. До самых последних дней…
***
Последний штрих на моей толстощекой физиономии превратил меня в луноликую. Мама пожертвовала той самой пудрой, которую ей привезли из Японии. Это была даже не пудра, это была драгоценность, стоимостью, наверное, с машину Волгу. Металлическая коробочка пудры была расписана розовыми цветами и странными птицами, защелка светилась зеленоватым огнем, а внутри была субстанция, делающая чудеса. Во всяком случае, моя пятнистая мордуленция чудесным образом засветилась и стала немножечко ровнее. Правда в красавицу Светку она меня все равно не превратила. Я тщательно упаковала свое толстое тулово в модные джинсы и кофту —размахайку, но предательские складки выпячивались с боков, а задница не лезла в зеркала трюмо, и троилась на противные одинаковые булки.
Мама постояла задумчиво сзади, потом чуть распустила шнурок моей размахайки и еле слышно сказала, скорее себе, чем мне:
– Да… надо кашу пореже что ли…
А вслух, чуть погромче —
– Ты на папу стала очень похожа… такие глаза, карие, с зеленым ободком. Карие – его, ободок – мой.
Я вздрогнула и промолчала…
***
Ребята из группы привалили сразу, всей толпой. Весело толкаясь, скинули в прихожей куртки, и стеснительно выстроились шеренгой вдоль всего нашего длинного коридора, переминаясь с ноги на ногу. У Сережки был драный носок, выглядывал палец, он все время пытался спрятать эту ногу назад и был похож на смущенную цаплю. Светка победно размахивала белокурой кудрявой копной и строила глазки одновременно всем ребятам и от старания даже чуть косила. Ленка рыжая, как лисенок, принюхивалась тоненьким изящным носиком в сторону кухни, плотоядно облизываясь.
– Вот ведь, везет некоторым. Такая обжорища, а как тростинка, – беззлобно подумала я, мне Ленка нравилась, мы даже уже начинали дружить.
– Проходите, ребят, что вы выстроились, как на параде. Там, – мама махнула полной белой рукой в сторону зала, – Стол, налегайте. А там, – махнула уже в сторону моей комнаты, – танцы. И не стесняйтесь, квартира в вашем распоряжении. Только мебель не ломайте.
Ребята ломанулись к столу, но стулья хитрая мама не поставила, так как был фуршет. К фуршету народ приучен не был, поэтому, разложив маленькие бутербродики по тоненьким фарфоровым тарелочкам, расселись – кто, где мог. Мама наливала шампанское в протягиваемые фужеры, у нее так блестели глаза, что казалось она помолодела лет на пятнадцать, пепельная прядь все время выбивалась из прически и падала на глаза.
Ленка влезла пальцем в белого лебедя на пирожном, смачно его облизала и спросила маму
–Ангелина Ивановна, а Ирка говорила вы рыжая, как я. Перекрасились?
– Леночка, – мама растерялась на секунду, потом расхохоталась, – рыжие они все ведьмы! Знаешь это? Вот и ты тоже, смотри, бабой Ягой станешь. Но не перекрашивайся, не надо, тебе очень идет. Она поиграла Ленкиной рыжей прядкой и щелкнула ее по носу. – Вон, какая красавица.
Я сидела на кресле и тянула лимонад. Настоящие женщины не пьют спиртного и не курят – мое убеждение, взятое неизвестно откуда, было непоколебимым. А запах сигарет уже неуловимо витал в воздухе сумрачных комнат, все явно где-то покуривали, отлучаясь незаметно по очереди. И вечер становился все таинственнее, мама включила музыку, она тянулась томным тягучим шлейфом, и, казалось, от нее колебались огоньки свечей.
– Пойдем, потанцуем? Что ты сидишь одна?
Я удивленно подняла голову. Меня в жизни никто не приглашал танцевать, я давно привыкла, что, такие как я не танцуют. Им положено много читать, много думать, у них короткие некрасивые стрижки на круглых головах, прикрепленных к толстым шеям. У них маленькие поросячьи глазки скрыты за толстыми стеклами близоруких очков, большие конопатые носы и жуткий характер. А танцевать? Да не смешите.
– Пошли! Я приглашаю.
Сергей стоял у моего кресла и нетерпеливо постукивал пальцем по полированному подлокотнику. Мама дала ему тапки, и он явно стал чувствовать себя увереннее. Тонкие узкие губы чуть скривились в непонятной усмешке, он смотрел странно, как-то в душу. У меня все внутри захолонуло, но я встала. И пошла…
…Танец кончился мгновенно, наверное, я была все это время без сознания. И потом, всю ночь, ворочаясь без сна в шершавой постели, я чувствовала обжигающие ладони на своих жирных боках. И горячий шепоток у уха.… Только я совершенно не разобрала – что же он говорил…
***
Мы не нашли белый кружевной платок для бабы Ани, но, намотавшись до полусмерти, в маленьком деревенском сельпо на окраине купили накидушку для подушки. Не помню уже, как она называется, но раньше, в деревне, такими накрывали гордую подушечную стопу, на которой верхняя, самая маленькая, ставилась уголком, так что получалось остренькое ухо. На ухо и вешали эту штуку, она ниспадала красивыми складками, утопающими в оборке. Наша же была необыкновенно хороша. По нежному кружевному полю были вышиты белоснежные розы, пышные, королевски-величавые, а по оборке порхали бабочки.
Развернув бумагу, баба Аня растерялась. Помолчала, покрутила накидушку в руках, потом сложила уголком и надела на голову, чуть присборила сзади, задрапировав негустой узелок седеющих волос. И тут ей понравилось! Порозовев от удовольствия, она вытащила из кармана своего байкового халата помаду и залихватским движением накрасила губы.
Я обернулась и посмотрела на маму. У мамы был ошалевший вид, потому что последние тридцать лет, такой картины она явно не наблюдала.
– Мам… а мам, – ее голос вдруг стал смущенным и осторожным, – Ты бы сказала, что тебе помада нужна… я бы тебе купила… более подходящую… по цвету…
Я, конечно, могла бы добавить, что неделю назад мне попало по первое число за пропажу этой помады. Мама искала ее везде, чертыхаясь, лазила под кровать и шваброй гоняла из-под тяжелой стенки комья пыли. И что ярчайшая помада любимого маминого термоядерно-розового цвета, была привезена ей прямиком «оттель», как она любила говорить, и цены ей просто вообще не было. И полдома было поднято по тревоге, и что получил пару ласковых ни в чем не повинный папа, и что горю не было предела. Но я ничего не добавила, потому что не успела…
Баба Аня гордо посмотрела на нас и потерла неровный контур ярко-розовых губ.
– Ничего! – она перевязала узел накидушки, превратив его в кокетливый, пышный бант, – мне и эта нравится!
… Мы с мамой растерянно смотрели ей вслед, одновременно вздрогнув от резкого звука хлопнувшей двери. Потом одновременно вышли на балкон и долго смотрели вслед уезжающей Волге, в которую села бабуся, крепко хлопнув отполированной дверью.
– Свадьба, наверное, будет, – пошутила я и, поймав мамин взгляд, поняла, что неудачно…
Глава 13. Лягуха
Вот и очередная московская весна прощалась с городом. Полетел тополиный пух, от которого вечно чесался нос и краснели глаза, по утрам исправно начали ездить поливалки и уже к десяти лужицы парили от яркого, сильного солнца. Настало время ехать на институтскую биостанцию. Для нас, первокурсников, это было обязательной практической нагрузкой, но я была счастлива. Во-первых, потому что я вообще обожала все эти занятия с цветочками-стебелёчками, а во-вторых, потому что я впервые удалялась от своих родных на такое расстояние. Мне было и страшно, и весело.
Мама очередной раз проверила мой рюкзак, зачем-то потрогала каждый кармашек куртки и засунула в один из них белоснежный, наглаженный носовой платок.
– Это зачем? Мам, ты мне в рюкзак же целый десяток уже положила. Я что – сопливая такая?
– Да ну тебя! Там еще, смотри, в термосе чай горячий. Вдруг замерзнешь в автобусе.
У всегда уверенной, насмешливой, сильной моей мамы был такой растерянный вид, что мне вдруг стало её жалко. Ей вообще досталось за последний месяц. Баба Аня вдруг пустилась во все тяжкие: похорошела, помолодела лет на двадцать, начала ходить в кино и в парк на танцы для тех кому за… Её бравый дед, бывший шофер какого-то генерала, ухаживал ретиво и красиво, бабка вспомнила все свои забытые манеры светской львицы и давала жару. Мама почему-то никак не могла принять эту новую пору в бабушкиной жизни, и они часто ругались, плотно прикрыв дверь кухни. Психовали обе, сильно, по-настоящему. В конце концов, баба Аня собрала вещи и фыркнув напоследок, ушла к своему престарелому ковбою. Теперь мама с папой по очереди носились к ним, убирались, готовили и стирали, потому что у бабушки болели изуродованные ревматизмом руки, а дед, в принципе не знал, где бывают кастрюли и откуда вырастают котлеты.
***
Наконец, автобус тронулся. Я заняла переднее сиденье, но в отражение водительской двери видела Сережкино лицо. Он о чем-то спорил с мерзкой Светкой и кадрился. Была у него такая манера – вдруг прижаться лбом к плечу собеседницы, толкаясь, как бычок, а потом отстраниться и заржать тонким, противным голосом. Я ненавидела эту привычку. Я ненавидела все его привычки, которые касались не меня.
Тряслись мы часа два. Я бездумно глядела в окно, мимо проносились подмосковные красоты, но мне было не до них. Чертово отражение не давало мне покоя. А Светка флиртовала вовсю. Она уже взгромоздилась к Серёжке на колени, утробно хихикала, как будто её щекотали, и от каждого её хихика в моей груди больно лопалось что-то, да так, что слезы наворачивались на глаза.
Мне казалось, что эта дорога не кончится никогда. Я уже жалела, что не воспользовалась возможностью откосить от практики, а возможность эта была реальна, как все возможности, воплощаемые всесильной мамой. «Вот-вот», – думала я, злобно кусая губы, – «Не послушалась, получи! Теперь весь месяц будешь смотреть на это дерьмо. Она с него не слезет, это точно. Ни-ког-да!! Так и будет сидеть, как белка на ёлке».
«Мы, вот чего…", – резковатый Ленкин голосок был таким звонким, что саданул по ушам, и от неожиданности я вздрогнула, – «Приедем, темную ей сделаем, чтоб запомнила. Я такую умеееююю, век помнить будет».
Я обернулась и, сдерживая слезы, посмотрела сквозь мутную пелену на Ленкино лисичье личико. Она всегда делала как-то так, что с меня шелухой слетала всякая гадость и мне снова хотелось жить. «Жалко ворота дёгтем нельзя…", – я мечтательно полистала в мыслях странички книг любимых классиков. Ленка классическую литературу не помнила, но поддержала:
«А чо, нельзя-то? Еще как можно… Эх, ворот вот тока нет… Слушай! Мы ей чемодан намажем. Где бы деготь взять?»
Мне вдруг стало так смешно, что я прыснула. Ленка обалдело посмотрела на меня, тоже прыснула и мы захохотали, как две дуры.
Автобус притормозил у небольшого светлого здания, похожего на старую школу. Водитель выгрузил нас на гладкую цементную площадку, выметенную до блеска, развернул машину и, притормозив на секунду, высунулся из окна и помахал рукой, весело присвистнув:
– Эй, студиозы! Давайте, про бабочек учите хорошо. А то страна без бабочек совсем рухнет. И не трах… много. Меру знайте.
Он бросил, конечно, более крепкое словцо, от которого у меня загорелись уши и кровь прилила к щекам.
«Вот сволочь…", – томная, как египетская пирамида, Надень, обладательница раскосых узких глаз неземной красоты и пухлого рта розовой гузкой, сплюнула вслед взбрыкнувшему задними колесами транспорту, поднявшему легкий пыльный бурунчик, – «Сам ведь… с преподницей физвозников. И ничо так, про меру не знает!»
Мне все эти тайны двора были не интересны. А вот куда потащил свой рюкзак Сергей, захватив по дороге поганый Светкин чемоданище, было интересно очень. И я, подхватив Ленку, зазевавшуюся на статного армянина из соседней группы, потащила ее вверх по лестнице вслед за удаляющейся сладкой парочкой.
***
Жизнь на биостанции закружила нас хороводом. Это было какое-то потустороннее существование, непривычное, здоровское, никак не вязавшееся с обычным студенческим московским бытом. В Крюковском лесу расположилась база, странным образом, но очень естественно растворившая в себе очень разный люд. Там прекрасно себя чувствовали высоконаучные преподы, самым младшим из которых был коне-подобный ботаник Николя, кандидат наук и жуткая зануда, а старшим – профессор К*, именитый зоолог, выпустивший не один десяток книг. И мы, безмозглые первокурсники, шарахающиеся, как напуганные коты от одного вида ванночек для препарирования лягушек, тоже были своими. Здесь все подчинялось совсем не тем, привычным, институтским законам. День начинался рано, в шесть, с завтрака в стеклянной, похожей на старинную, пронизанную солнцем оранжерею столовой. Там, внутри расставили длинные дощатые столы-полати и узкие, качающиеся лавки. Заправлял всем Арсен, именно тот армянин, на которого положила глаз хитрая Ленка. Под руководством своей мамы, огромной, толстой, черной, но почему-то очень уютной при своей устрашающей внешности, и с помощью сестры Анели – тоже черной, но нежной и хрупкой, как фарфоровая статуэтка, они творили чудеса кулинарии. Такие, что постепенно я почувствовала, что моя задница неуклонно увеличивается, и скоро начнет мешать при ходьбе, откидывая бедное тулово назад.
После завтрака были занятия в лабораториях. Старинные, видевшие, наверное, Дарвина, наши лаборатории хранили немало тайн. Там происходили не занятия, там творились действа. А самым ненавистным для меня действом было обездвиживание лягушки. Воткнуть между позвонками бедняги, к тому времени еле дрыгавшей лапами и выпучившей от ужаса глаза, толстую иглу, пошебуршить острием в спинном мозге, а потом аккуратно перевести иголку в лягушачью башку, было для меня абсолютно невозможным, и я каждый раз просила помощи у ассистентки. Ленка, лихо расправлявшаяся с лягушками, тоже помогала, но однажды прошипела мне смеющимся шепотком:
– Что ты, как дура, в самом деле. Иди, Серегу попроси. Он каждый раз от лягух увиливает, не знаю, как ему удается. А тут ты его припрешь. Посмотрим, как он вывернется. Джентльмен ведь, итить его.
Я посмотрела в Ленкины глазищи и подумала:
– А ведь правда. И причина вроде будет подойти. Не все ж я ему буду бабочек рисовать. Пусть и он…
Внутри сразу стало холодно, загорелись щеки, руки повлажнели так, что ванночка стала казаться скользкой и норовила выпрыгнуть на деревянный пол. Но я собрала себя в кучу, вытащила из банки самую толстую лягуху и поплелась в дальний угол лаборатории, где Сергей с Надень приклеивали сушеных мух на альбомный лист, встраивая их по ранжиру, при этом очень старательно высунув языки.