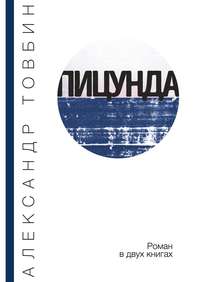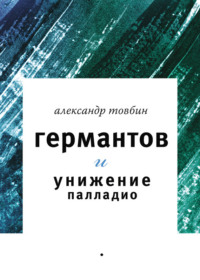Полная версия
Музыка в подтаявшем льду
Однако горячий цех этот неутомимо гудел поодаль, за поворотом, в конце узкого коридорчика, а вот дверь, из-за которой зазвучало вдруг танго, была как раз напротив комнаты Сосниных.
Да, у моложавого, ангельски-голубоглазого, русоволосого и курносого, по-деревенски косноязычного Литьева собрались гости.
Литьев,какобычно,отмечалвечеринкойотъезджены
Следователя Большого Дома Виктора Всеволодовича Литьева в квартире побаивались, чуть ли не машинально замолкали пред его дверью, не скандалили с ним, как скандалили с другими соседями, если кто-то, как Литьев, для удобства прохода по тёмному коридору включал лампочки у чужих дверей, хотя Соснин не мог понять, что именно вселяло в квартирантов священный страх – Литьев казался вполне благодушным весельчаком, занимая очередь в уборную, мог, пусть и коряво, пошутить, щёлкнуть кого-нибудь из крутившихся под ногами детей по носу, Соснина, правда, передёргивало, когда следователь клал ему на голову большую ладонь и говорил с ласковым удивлением – какой у нас еврейчик подрастает, с умными глазками… И ещё следователь любил обсудить футбольные новости; осведомлённый о положении дел в обеих ленинградских командах, страстно болел за «Динамо», боготворил Бутусова, братьев Фёдоровых, Пеку Дементьева.
У Литьева было много важной работы, очень много, порой даже ночевал на Литейном, в кабинете, шептались мать с Раисой Исааковной, ему ставили раскладушку. Но к весне Литьев, надо полагать, выслуживал передышку; провожал жену, тёмноглазую толстушку Асю с маленькой дочкой в родную деревню под Рязанью и – созывал гостей.
Стонал патефон… В приоткрытую дверь виднелся уставленный «Московской» и «Советским Шампанским» задымленный стол, во главе его восседал старший коллега Литьева – черноголовый и скуластый, с чуть приплюснутым носом, дырками больших ноздрей, массивный Фильшин, затянутый в шевиотовую гимнастёрку с накладными карманами, подпоясанный широким кожаным ремнём; суровостью, мрачностью, он резко отличался от светлокудрого, субтильного и дурашливого, внешне – сугубо штатского Литьева.
Стонал патефон, силуэты, обнявшись, качались на свободном пятачке у окна, потом молодые красногубые женщины в пёстрых летучих платьях с просвечивающими лифчиками, неестественно вздёрнутыми острыми плечиками, по одной ли, стайкой, выпархивали в коридорную тьму, задевая висевшее на гвозде за дверью корыто, за ними кидались кавалеры с папиросами в зубах… из пыльных закутков доносились повизгивания, сдавленное дыхание.
отгрехаподальше
Перенаселённая квартира вымирала.
Мать и Илюше запрещала нос высовывать в коридор.
Но вечеринки у Литьева её воодушевляли – весна, весна, скоро уже… Мигрени отступали. Она задумчиво улыбалась и распахивала шкаф, учиняла смотр пляжным нарядам; и Соснин глуповато улыбался, заметив под простынями чёрную полоску таинственного футляра, и листал альбом марок или вертел калейдоскоп, наводил на небо синее стёклышко.
А во дворе всё громче звенели детские голоса: море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется…
бледнаякопия
Когда приезжал из Крыма отец, чтобы помочь собрать вещи, достать билеты на поезд, у Сосниных появлялся повод принять гостей.
Технически приготовить обильное угощение в условиях борьбы за кухонное пространство было непросто. Но помогала постоянная союзница Раиса Исааковна – уступала свой примус, предлагала посуду, сообщала, куда отгрузили бочковую селёдку с молокой, шпроты. И отца отправляли по указанным адресам – матери не терпелось блеснуть, стряхнуть тоску зимних будней.
Вечер. Раздвинут и без того просторный овальный стол на массивных ножках под огромным солнечно-оранжевым абажуром, выставлены закуски… Теснота, не протиснуться между стеной и спинками стульев; кажется, что вырос рояль, освобождённый от суконной накидки.
Терпеть не мог эти сборища!
Сначала играла мать.
– Риточка, потрясающе, если б ещё крышку поднять…
– Что вы! У инструмента и без того дивный звук, а за стеной отдыхают соседи…
Потом маленького Соснина ставили на стул, заставляли читать «Муху-цокотуху». Не иначе как в награду за выступление за ним гнались потом, чтобы сжать до хруста косточек, расцеловать; спасался от мокрых зубастых ртов в душной шторе.
Однажды гости расселись, он незаметно юркнул под стол.
Брюки, чулки, туфли – две вогнутые шеренги ног, переминаясь, вроде бы угрожая, были, чувствовал он, его защитой. Сверху долетали глухие голоса, смех… как вкусно… вы ещё не попробовали… объедение… и как академик Зелинский на кефире девяносто лет прожил… Отодвигался стул, выбивая в шеренге ног брешь, просовывал восковый язык свет. Под бахрому скатерти ныряла чья-то рука, но не цапала Соснина, а, почесав своё колено, возвращалась к прибору, шёлковый подол платья приятно касался щеки прохладной складкой. Сладко уснул в несомкнутых объятиях двуполой сороконожки! Табун тянитолкаев с громким ржанием катался неподалёку на спинах по изумрудной траве, двуглавые животные сучили в воздухе ногами с подкованными копытцами, изображали скачку… хорошо!
Однако Соснина хватились, вытащили из сновидения – с хохотом, шуточками укладывали в постель.
Профессор Соркин гремел тем временем: майн готт, Риточка, облизал пальчики, вы на недосягаемой высоте! Кисло-сладкое мясо из вашего рога изобилия и вовсе – мечта поэта! Но для тех, кто брега Тавриды не посещал, нашепчу по секрету, что это бледная копия пиров, которыми Риточка развращает трудовые массы под южным небом.
первыесведенияорае
Патефон выносили на террасу, стол, стулья сдвигали.
Если всё не так, если всё иначе, если сердце плачет… – начинался вечер.
Клумбы, пирамидальные тополя вдоль набережной, горячий лиман с целебными грязями, санатории для детей, больных костным туберкулёзом. Отец здесь оперировал и консультировал ежегодно – ему с семьёй отводили в двух шагах от моря отдельный дом в абрикосовом саду.
Этот дом с солнечной анфиладой клетушек мать называла виллой.
Неправдоподобно!
Никаких забот об уборке, поскольку доктору выделялась приходящая домработница, не надо париться на кухне, варить супы, каши – четыре раза в день являлась с блестящими многоэтажными судками официантка из санатория.
Рай, форменный рай, – приговаривала всякий раз мать, возвращаясь сюда после мрачной сырой зимы, пробуждаясь от изнурительно-долгой спячки… Отпустив машину, отчитав отца за раскиданные чемоданы, жаловалась, что разбита, шатается от дорожной усталости, которая отдаёт стуком колёс в висках, но вдруг начинала растерянно озираться по сторонам, как если бы не верила, что рай стал отныне её владением. Потом шумно распахивала окна, чтобы выгнать из комнат затхлый нежилой дух, полной грудью вдыхала пьянящую весеннюю свежесть. От избытка нахлынувших чувств прислонялась к косяку террасной двери, мечтательно глядела в небо поверх бело-розового кипения сада, оккупированного пчелиным жужжанием.
И усталости как не бывало.
Ею обуревала внезапная энергия, велела отцу, чтобы не стоял без дела, повесить гамак… Всё стало вокруг голубым и зелёным – неслось через минуту-другую из спальни, где она одевала на плечики крепдешиновые платья, сарафаны из штапеля.
И вот уже отцветали каштаны, приближалось официальное открытие летнего сезона. Скоро съедутся друзья, замелькают в солнечной круговерти дни – до чего же весело отдыхать в большущей пёстрой компании, убивая время на манер пиршеств и развлечений в каком-нибудь дворянском гнезде.
А гости, как повелось, ожидались с громкими именами. Их шумные регулярные набеги ничуть не пугали мать, напротив, обещали долгожданную радостную плату за муки тусклого городского быта. Для дорогих гостей она стряпала с неистощимой фантазией, не желая ронять звание выдающейся кулинарки, терроризировала домашних, знакомых, попадавших под горячую руку в процессе священнодействия, зато к назначенному часу стол сверкал сервировкой, наградой за труды были аплодисменты и возгласы восхищения, встречавшие вереницу блюд.
чуть-чутьмифологии
У доктора Соснина открытый дом – сообщала новичкам-курортникам жена Грунина, бесцветного ассистента отца, и, поджав губы, добавляла – но учтите, туда приглашают избранных.
Мать гордилась этим – похоже, центральным – тезисом курортной молвы, изо всех сил старалась, собирая за столом знаменитостей, не дать повода злым языкам его опровергнуть. С неизбывным удовольствием, даже спустя много лет, ею исполнялось попурри из баек, острот, рождённых в непринуждённой атмосфере открытого дома, особенно охотно цитировался профессор – впоследствии академик! – Соркин, создатель медицинского направления, изумительный клиницист и педагог, в своё время читавший отцу курс костной патологии, затем регулярно, совмещая приятное с полезным, как выражался сам Соркин, наезжавший по вызовам благодарного ученика для отдыха и платных консилиумов… Так вот, окидывая избранное общество не по годам шаловливым взглядом, Соркин к неописуемой радости матери – знал, сколь высоко ценит она хрупкое искусство заезжих златоустов, хотя вряд ли надеялся, что самые высокопарные и слащавые из его творений ей удастся сберечь для будущего, – произносил с бокалом в руке нечто пышное, например: майн готт, попал с корабля не на бал, а в чарующий, но будто бы бесхозный гарем. Что ж, красота должна принадлежать всем, однако если кто-то полагает, будто мне по возрасту пристала лишь роль воспевателя дивных чар или того хуже – евнуха, то спешу заверить во всеуслышание представительниц прекрасного пола вкупе с юными моими соперниками, что они роковым образом заблуждаются.
аещёраньше
Довоенную жизнь виллы Соснин связно восстановить не смог бы, был слишком мал. Лишь фото спасали от увядания молодых белозубых женщин, молодого, ещё не облысевшего, рассеянно-улыбчивого отца, совсем молодую светловолосую мать в удлинённой юбке, сидевшую за ветхим белым рояльчиком, который удачно дополнял разношёрстную меблировку виллы, вполоборота к слушателям.
Матери очень шла эта поза: откинута в порыве вдохновения голова, растопыренная пятерня взлетела над клавиатурой, будто извлекла из неё пассаж божественного звучания, но не удовлетворена добытым, опять и опять готова сокрушать старенький расстроенный инструмент. Чтобы убедиться в том, что ей и впрямь чертовски шла эта артистичная поза, стоило перевести взгляд на восхищённых почитателей, не устававших хлопать, расточать похвалы; восторженно подался вперёд круглолицый усатый крепыш – мировая звезда, кудесник гавайской гитары, приглашённый после курзального триумфа отужинать: накрывали стол на террасе.
нахлынуливоспоминания
Что за сомнительный материал для реставрации прошлого! – стопка контрастных, наспех промытых, в крупицах серебра, фотографий; обрывки младенческих впечатлений, заквашенных на элегических вздохах матери. Однако цельное, хотя и не лишённое сценической условности переживание воссоздаёт разрушенные временем декорации, в них резонируют знакомые голоса.
Первым появляется Душский.
Цветы, кулёк с раковыми шейками.
Прелесть, поставь поскорее в воду, такой душный вечер, завянут… Илюша, где спасибо? Умоляю, Леонид, не приноси больше ребёнку конфеты, ты ему испортишь зубы… И садится, запускает гребень в густые волнистые волосы, а Душский потешно молит о прощении, подражая оперным неудачникам, прижимает ладони к сердцу, падает на колени, ползёт, как жалкий раб, к подножию её трона. Вымолив снисходительную улыбку, вскакивает, бежит с вазою за водой, возвращается, не прекращая дурачиться, жалуется на стоическое холостяцкое одиночество, на одичание без женской ласки – ежегодно, как подкалывал Соркин, исключительно из снобизма, он снимал комнатку на отшибе, в рыбачьей мазанке – теперь же, выйдя из добровольного затворничества к людям, заслуживает внимания, приветливости; ещё что-то быстро говорит, говорит – подвижный, тугой, румяные щёчки-мячики, круглые коричнево-чёрные глазки: прилипчивые, просверливающие, пока насквозь не увидят.
Он приходит первым, чтобы побыть с матерью до того, как вернётся с работы отец и запрудят террасу гости.
Тихо.
Уронив газету, дремлет в кресле-качалке дед.
Быстро сгущаются сумерки… удивительные мгновения!
Небо ещё светлое – с прозрачным желтоватым затёком книзу, тлеющей в зените голубизной, но листва уже набухает тушью… И вот гаснущий день оставляет после себя лишь прощальное сиреневое свечение, которое омывает стёкла, стены, конёк крыши, повисает в вышине ненадолго и внезапно поглощается безудержной темнотой.
Одновременно со звёздами загораются лампы.
Ярко светит на террасу окно-экран – мать всё ещё причёсывается, подкрашивается, Леонид Исаевич, положив ей руки на плечи, что-то шепчет на ухо, потом целует в затылок, наклоняется сбоку, целует в губы, она в ужасе дёргается, споткнувшись в зеркале о случайный взгляд сына, – спокойный, без примеси ревности взгляд ребёнка, поглощённого игрушками, застрявшими в зубах приторными комочками, но не вовремя задравшего почему-то голову. Душский резко оборачивается, как пойманный за руку вор, пробуравливает зрачком… столько лет минуло, а уставился недавно и сразу всплыло муторное детское ощущение.
шарик улетел
Заканчивает кимарить дед.
Возвращается с работы усталый, рассеянно озирающийся по сторонам отец, вручает Илюше трепещущий на нитке синий воздушный шар.
И шуршат по дорожке гости… налетают загорелые женщины с короткой стрижкой – смех, объятия, возгласы, поцелуи, хотя расстались всего три-четыре часа назад на пляже. Смех, смех – им весело; тискают, трясут и переворачивают Илюшу, как издающую звуки куклу, он упускает в темноту шар, хнычет, вертится под ногами.
Если всё не так, если всё иначе, если сердце плачет от… – на пробу запускается патефон.
заминкана сцене(под нестерпимый смех фотографий)
Мать обносит гостей, будто хлебом-солью, блюдом с абрикосами, благо плодоносящий сад обступает виллу, и заодно командует сервировкой, ещё, оказывается, не законченной взявшимися помочь подругами, которые увлеклись, отвлеклись, ещё бы, Душский гадает женщинам по ладоням, всех по очереди вгоняя в краску, те немеют, цепенеют от липкой прозорливости психиатра – Душский остроумно импровизирует, к неловкому удивлению испытуемых делая вид, что извлекает из богатого врачебного багажа фривольные истории и теории…
– Почему снятся догоняющие уродцы, монстры?…
– Тайные желания вытесняются в сон…
– Хочу, чтобы догнали меня и…
– Ещё как хотите!
– Но…
– Но боитесь в этом признаться. Даже себе.
– И… и что же? Любовь, самая светлая, зиждется на пороках?
– Не совсем так, не совсем… время суток перенацеливает стрелу любви – днём любят за добродетели, ночью – исключительно за пороки.
– Жестоко шутите, Лёня!
– Это не шутка, святая правда.
– Гармония невозможна?
– Увы, – Душский виновато разводит руками.
– Лёня, откуда берутся психические болезни, та же шизофрения?
– Наследственная память полна смертельных ужасов, несчастий, которые настигали предков.
– Леонид Исаевич, если изобретут лекарство…
– Мариночка, лекарства лечат симптомы, не болезни…
– И что же… – наливает лимонад Нюся, – шизофрения неизлечима?
– Разумеется!
– Вы, врач, расписываетесь в бессилии?
– Ничуть! Снимаю пиковые рецидивы, успокаиваю душем «шарко».
– Религия медицине не помогает?
– Не забывайте, Мариночка, христианство развело природное и духовное, навеки обрекло свою многомиллионную паству на хроническую шизофрению…
И вдруг чудилось Соснину, что всё-всё было не так, иначе, но как именно – не узнать. А фото стыдили – не ленись! Ты обязан трудиться, чтобы ожили хохочущие в объектив истуканы, которых так больно рассматривать теперь из неведомого им тогда будущего. Соснин смотрит на залитые комнатным электричеством мизансцены минувшего, вслушивается в нестерпимый смех, и боль усиливается страхом – запоздалым страхом за них, весёлых и молодых, за себя маленького, капризного, беззащитно-доверчивого, за всех тех, кого почему-то высветил на зыбких подмостках луч. Ему страшно, хотя ничего страшного он не видит – южная тьма, окутавшая яркую сцену, где разыгрывается ежевечерний спектакль, подобна ткани кулис. Он смотрит, вслушивается в смех и никак не может понять – начинать ли начисто действие или продолжать репетировать, всё глубже погружая выдуманные факты в подлинные, как кажется, ощущения. Ко всему памяти не хватает достоверных деталей, фантазии – реального, неотвратимого образа, но из-за чешуйчато-чёрных крон, словно потянули за невидимую верёвку, выползает оранжево-красная, как апельсин-королёк, луна. И страх отступает, оживают комбинации позирующих тел, лица. Затмевая луну, электричество, магниевая вспышка на лейке неутомимого Сени Ровнера – горластого, зубы вперёд, фоторепортёра украинской газеты, маленького, густо-веснущатого живчика, с проблесками лысины в рыжей опушке – выхватывает их из потока времени. Спасибо Сене, не пожалел извести на курортную компанию столько служебной плёнки.
подробности(отголоски под лёгкую музыку)
Уходит вечер, вдали закат погас…
Щекастый скрипач-виртуоз Давид, молодой, но популярный уже киевский композитор Женя, обольстительная светлокудрая медсестра Эстер, говорящая с английским акцентом, приманка для знаменитого писателя, его приезда с нетерпением ждут… Хорошенькие черноглазые хохотушки Нюся, Марина, школьные подруги матери. Гуттаперчевая, премило-скуластая тонкобровая Верочка – спортсменка-прыгунья, дублировавшая в каком-то трюке солнечную Орлову.
Вот и последний гость, если не считать чародея-гитариста, обещавшего присоединиться после концерта; это место для Джона, – многозначительно понижая голос, предупреждала, когда рассаживались за столом, мать… Рыжий Мотеле, не слепи, не слепи, уймись, – урезонивал Сеню, который хотел остановить все мгновения, последний гость, – вот он, вот, с защитной, выставленной вперёд ладонью! Создатель медицинского направления, клиницист и пр. и пр. медленно поднимается по ступенькам террасы, шумно, чтобы все слышали, втягивает воздух большим пористым носом. Что за аппетитные ароматы, Риточка! – восклицает он зычным и при этом бархатистым баритоном мхатовских корифеев, гомон, смех неохотно смолкают – майн готт, не грешно ли так нас баловать? Грешно! Боюсь, Риточка, радость моя, от наслаждения дух испустим – и – грозно – доктор Соснин! Сатурналии в вашем доме пора бы обсудить и осудить на месткоме!
Церемонно склонившись, Соркин первым делом целовал ручку хранительнице – как он выражался – салонного очажка, разогнувшись, лязгал замком старенького портфеля, вытаскивал Массандровскую бутылку и, само собой, длинную, длиннее карандаша, барбариску в полупрозрачном, розовом, в красную косую полоску, фантике с распушенными на концах хвостиками. Правда прелесть? Будто ёлочная игрушка! – всплескивала ладонями, взывая к коллективным восторгам мать, – Илюша, поблагодари скорей Григория Ароновича… Но тот уже неспешно пожимал руки, целовал ручки; мужчинам доставались не лишённые приятностей колкости, удостоенные витиеватых комплиментов женщины заливались смехом, точно их щекотали.
Соркин играл свадебного генерала, не боясь переигрывать.
Искренне полагал свою напыщенную болтливость даром, позволявшим соперничать с Душским, который заслуженно слыл королём застольного остроумия. Соркин пыжился изо всех сил, если получалось Душского поддеть, кожа на лице, следуя за победной усмешкой, приходила в движение, елозила по черепу, дёргались даже уши, но психиатр не оставался в долгу, жёлчно вышучивал посягательства оппонента на академические регалии, предлагал ехидные тосты и сыпал, сыпал рискованными анекдотами… На карнавале под сенью ночи вы мне сказали – люблю вас очень… смех, звон казённой баккара. Глянешь на фото сквозь своевольную слезу и – услышишь остроты, обрывки фраз; их бессистемно подсказывал суфлёр, таившийся в памяти, подсказывал будто бы вполне натуральными, но при этом какими-то шелестяще-машинными голосами, словно разматывалась воспроизводящая лента. На карнавале вы мне шептали… Звучит, возбуждающе звучит музыка роскошного южного вечера, сулящего не менее роскошную ночь. Музыка как подлива страсти, не испытавшей ещё утреннего обмана, тоски, разлуки – зависает на локте кавалера, откинув головку, Нюся: короткая стрижка – волосок к волоску, большая шпилька с горящими камушками сцепила поблескивающую, будто отлакированную прядь над ухом, и вздрагивают ресницы; Нюся с театральной скорбью вздыхает и под аплодисменты обмахивается пухлой ладошкой, ямочки продавливают округлости щёк.
Я вспомню лунную рапсодию и напою тебе мелодию… Хохочет Шурочка Гервольская, по-детски наивная, развесёлая певунья и музыкантша, хохоча, кокетливо грозит Душскому пальчиком Соня Спивак, загадочная брюнетка с прямой спиной, театральная художница, любимая ученица знаменитой киевско-парижской авангардистки Экстер. И, конечно, хохочет, резко наклоняясь и гримасничая, Марина – кавалер-Женя, у него твёрдая линия подбородка и томный взор, её бережно придерживает двумя руками, одной за талию, другой за оголённое плечико, прорезанное бретелькой, – и у Марины вздрагивают пушистые ресницы, прямые волосы почти касаются каменного пола террасы; рядышком изогнулась белокурая Эстер, картинно отставив длинную ногу… Помнишь лето на юге, берег Чёрного моря? – с вкрадчивой настойчивостью вдруг спрашивает Шульженко, превращая безмятежное настоящее в сквозящее грустью прошлое, а пары кружат, выламываются, на пике лирической муки пластично исчезают в благодатной тьме сада.
В тени ветвей пел соловей…
Ах, эти чёрные глаза…
– Найн! Вир воллен «Блюмен геданкен»! – требовал Соркин, и колыхались головы, спины – нох «Блюмен геданкен», нох – клиницист был неутомим.
И затем всё-таки – «Чёрные глаза», затем…
Затем появлялся долгожданный Джон с гавайской гитарой, играл.
В коротких паузах Душский, сплёвывая в кулак косточки абрикосов, не понижая голоса, угощал историческими диагнозами своёго учителя Бехтерева, которого в награду за откровенность отравил тиран-параноик, снова сыпал анекдотами с политическими намёками… гости, глупо улыбаясь, притворялись, что что-то не поняли, хотя уточняющих вопросов не задавали, отец в панике поглядывал на дядю Гришу, тот ведь служил в отделе снабжения НКВД, но дядя Гриша, ещё в начале вечера нацепивший на резинке нос Буратино, чтобы позабавить Илюшу, так и не снял его, – откупоривал бутылки, бездумно хохотал, сверкая золотым зубом, заражал весёлостью; скоро его убьют на войне. И танцы возобновлялись, скажите, почему нас с вами разлучили, – удивлялся Лещенко, – ведь знаю я, что вы меня… И пламя прежнего желанья опять зажглось в душе моей – во всеуслышание признавался вёрткой Верочке, забивая плывучий патефонный тенорок, Соркин, и дёргался, взбрыкивал. Ноги оттоптал старый мерин – смеясь, тихонько жаловалась Верочка Душскому, тот с серьёзной миной сочувствовал – старый мерин ещё и сивый; Верочка вновь что-то ему шептала, вопросительно косясь на танцующих, он, склонившись к нежному ушку, объяснял громко, словно бросал репризу: евреи злостные путаники, у них, Верочка, одна буква предательски может изменить смысл, Экстер – это фамилия, Эстер – имя… сладостно тем временем страдал Козин, игла скользила, скользила в круговой борозде пластинки! И – после Козина – Женя, просим, просим! Женечка, вальс! И за рояльчик, вломившись в комнату, плюхался композитор, общий кумир, тёмноволосый, со впалыми синеватыми щеками и очами, брызжущими во все стороны любовным огнём. И, взяв аккорд, запрокинув голову: в парке старинном под ветром звенят… много дней пронеслось, много лет с той поры пролетело… Конвульсивно вальсируя, Жене с безотчётной радостью подпевали: бе-е-елое-е платье-е мелькнуло во тьме ночной… В мистической рутине звуковых переборов, зримых перестановок и вспышек-дублей казалось уже, что это не спектакль – кино, дотошнейшее кино! Какой волшебник-оператор поставил свет?
– Не моргайте, товарищи, последний кадр! Пш-ш…
Соснин ощущал свечение фотографий… излучение серебра?
И пламя прежнего желания…
– «Рио-Рита»! – торжественно выкрикивал Сеня, перезарядив плёнку, кавалеры кидались приглашать мать, по старшинству она доставалась Соркину, Душский крутил, крутил патефонную ручку, что-то издевательски-весёлое орал танцующим, те тряслись, содрогались в фокстроте…
Затем дружно просили поиграть мать.
Для виду отнекивалась, однако всё же шла в комнату, к облупившемуся рояльчику, пошире открывала окно на террасу, с перезвоном колечек отодвигала штору; дополнительно вспыхивало яркое бра.
За этим рояльчиком потел когда-то тапёр в киношке, но экран заговорил, неисправимо расстроенный инструментик списали на виллу к доктору. Можно поупражняться, чтобы поддержать форму, размять пальцы, хотя это несерьёзно, да и сын требует внимания постоянно… дома у нас настоящий концертный «Стейнвей», правда, и на нём часто не поиграешь, столько забот о ребёнке – щебетала мать, долго усаживаясь на круглую вращающуюся табуретку. Выжидала с минуту, чтобы Сеня вновь успел перезарядиться, прицелиться, наконец-то ударяла по клавишам, многие из коих лишились костяных полосочек облицовки. Мать вдохновенно бренчала в комнате, превращённой в залитую тёплым огнём эстраду, гости на террасе изображали зрителей, слушателей, теснившихся у окна, зеркало удваивало распаренные лица, мелькали веера в похолодевших лучах луны; поднялась высоко-высоко – блистательная, недосягаемая. После разноголосых похвал и аплодисментов, этюд Шопена на бис, опять – шум, шарады, танцы призраков, снующих меж электрической яркостью и омытой луною тьмой сада, откуда, панически мельтеша крылышками, жуткими чёрными всполохами летучие мыши несутся к комнатным лампам, чтобы затем резко повернуть, вновь исчезнуть во тьме.