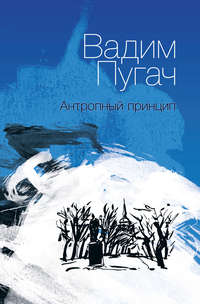Полная версия
Кентавры на мосту
Примерно к тому же времени относится и другая история, растянувшаяся года на два. Омский, изредка писавший и уже забывший, что когда-то мечтал публиковаться, получил заказ. Он иногда подрабатывал, сочиняя тексты песенок для театральных спектаклей, но тут все было гораздо серьезней: заказали полномерную пьесу в стихах. Ставить ее собирался одноклассник Омского, работавший тогда в каком-то сибирском ТЮЗе. Пьеса писалась долго, потом переписывалась. Шли репетиции, приближалась премьера. Омский взял отпуск за свой счет, упаковал несколько бутылок водки из сложившегося еще за талонное время запаса (дома скопилась такая батарея, что выпить ее не представлялось возможным даже ему) и поехал в Сибирь. Первое впечатление было обескураживающим. Впоследствии он рассказывал об этом так.
Рассказ ОмскогоВ… –м ТЮЗе ставили мою пьесу на популярный в мировой литературе сюжет. Переговоры я вел по телефону с молодой администраторской особью по имени Ира. Мне объяснили, как найти театр.
Приезжаю в …ск, нахожу похожее на театр здание, уверенно требую администратора Иру. Она появляется откуда-то из пыльных театральных глубин, и тут я вижу, что со времени последнего телефонного разговора Ира сильно сдала: как минимум, лет на тридцать. Недолго думая, сообщаю:
– Я автор «Фауста».
Общее замешательство. Спасибо, в психушку не отправили, растолковали, что я попал в мюзик-холл, а ТЮЗ метров через 150.
Три дня Омский провел в каком-то пьяном полусне, почти не выходя из театра. Вокруг думали только о его пьесе, занимались исключительно ею, незнакомые люди в обычных разговорах перекидывались репликами из нее. Омский привык считать себя человеком незначительным и маргинальным, и находиться в центре ему было странно. На какое-то время он решил, что это и есть счастье, но из-за отсутствия навыка не знал, как к этому относиться, как себя вести. Водку, привезенную из Петербурга, выпили в первый же вечер после репетиции. Пили в избранном кругу: маститый главреж, приглашенный постановщик пьесы – одноклассник Омского, завлит, администратор Ира, вернувшая себе молодые облик и голос, еще какие-то смутные персонажи и сам Омский. Его поразило, что актеры, даже лучшие, в эту компанию не допускались. Видимо, считались людьми второго сорта. В отличие от него – автора. Почему-то вспомнилось, как в Петербурге его привели к знаменитой заведующей литчастью одного большого театра, но та даже не пустила Омского – молодой человек подождет за дверью – в свой кабинет.
На второй день репетировали уже генерально, с приглашением избранной публики. Потом снова пили. Но самая страшная пьянка была на третий день – после премьеры. Спектакль явно нравился публике, актеры играли на совесть. Особенно хорош был Мефистофель. Запомнилось, как он сверкнул глазами, слизывая с ножа кровь Фауста, пролитую для заключения договора. Через пару месяцев Мефистофель уедет в Москву и спектакль закроют. Но пока надо было пережить занавес, участвовать в общем выходе из-за кулис, слушать аплодисменты, кланяться, держась за руки с людьми, о существовании которых три дня назад не подозревал. Когда занавес вновь опустили, Гретхен с чувством поцеловала Омского. У нее были на это основания: ее муж, Фауст, впервые получил главную роль. Она думала, что теперь о нем напишут в газетах и жизнь их изменится к лучшему.
Отметив успех, вышли целой толпой в двадцатипятиградусный мороз сибирской ночи и стали ловить такси. Машины не попадались. Завидев издалека автобус, организовали цепь и весело перегородили улицу. Автобус остановился. Одноклассник-режиссер, щедро расточая обаяние, уговорил шофера развезти всех. Тормознуть автобус – в этом был какой-то лихой порыв молодости, совершенно чуждый Омскому, но, несомненно, приятный ему. Его сгрузили около гостиницы, чуть не в сугроб, и немедленно отчалили. Омский подошел к двери: ее заперли на ночь. Может, замерзнуть? Вот судьба была бы! Нет, мелькнул кто-то за стеклом. Омский отчаянно постучал, его впустили. Он был так пьян, что промахнулся этажом и ломился не в свой номер. Ему что-то объясняли, он соглашался. И, попав к себе, сразу заснул.
Уже в самолете он впервые назвал себя фамилией, под которой фигурирует здесь. Раньше-то он назывался иначе. И никакого Омского-старшего, таким образом, не бывало.
Так вот: единственный Омский, присматривавший за детьми на расстоянии, пил кофе и увидел боковым зрением тень, и тень эта показалась ему женской.
3. ЕленаОна скользнула по коридорному колену из комнаты Витька, к которому в последнее время зачастила. Витек был хорош: среднего роста, стройный, но мужиковатый и меднолицый и сам как бы весь правильно отлитый из меди, когда разденется и вспотеет. Говорил мало, разбавляя речь повторяющимися «короче» и «в принципе», но любил исправно. Неисправные долго при ней не задерживались. Витек держался с осени. Впервые она увидела его во время утренней пробежки: сквозь школьную ограду крашеного металла мелькнуло несколько голых тел, обливающих себя из разноцветных пластиковых ведер. Наметанный глаз сразу выделил загорелого Витька. Единственная светлая полоска кожи выглядела на нем как-то особенно привлекательно.
– Привет, Аполлоши! – крикнула она, опершись на обломанный зубец решетки.
Мальчишки, наскоро запахиваясь в полотенца или просто сверкая голыми задами, сыпанули в здание, а Витек, элегантно прикрыв светлую полоску ведром, широко улыбнулся и ответил:
– В принципе, привет, – и сделал несколько шагов к ограде.
Светская беседа не продолжилась, потому что на крыльце показался атлет, замотанный в махровое полотенце ниже пояса, – Сансарыч. Мальчик помахал ему:
– Короче, иду! – повернулся к даме ослепительным задом, сдернул с веревки, натянутой между березами, полотенце, не спеша взошел на крыльцо и скрылся за дверью.
Встретиться снова было легко. Жила она, с тех пор как ушла из семьи к Антону, недалеко от школы – в квартале хрущевских пятиэтажек. Антон был не первым в череде любовников, предлагавших жить вместе, но она все ждала выпускного. На уроки почти не ходила. Вместо этого уезжала к Антону за город, если он был не занят на работе или в аспирантуре, проводила у него день, вечером возвращалась домой. Родители то пытались сочувствовать, то озверевали настолько, что отец мог и ударить. Ее, правда, приложил только один раз, больше тыкал кулаком в кухонную стену или лупил по столу. Стена, и без того хлипкая, понемногу осыпалась, обнажая потемневшую дранку в муке штукатурки. Стол держался мужественно, разрушить его было непросто. До выпуска дожили и стена, и стол, и она сама. Получила аттестат и теперь вольна была делать что угодно, вот и переехала к Антону. Родители давали немного денег, но в целом выживала самостоятельно.
Главным ее предназначением, сколько она себя помнила, было женское. Года в четыре определенно заявила, что хочет юношу, и с этого пути уже не уклонялась. В четырнадцать Елена (такое имя для нее уместнее всякого другого) сошлась с ровесником – соседом по даче. Дальше замелькали большие любови, длившиеся месяца по два, а то и по три с восторгами, страданиями и хождением по стенкам после расставаний, и маленькие – с обжиманиями на лестницах чужих подъездов после стаканчика пива или нескольких глотков портвейна. Такая жизнь требовала ловкости говорить разным людям разные вещи и отслеживать, что именно сказано и кому. Иногда случались проколы. Как-то она сообщила родителям, что у подруги умерла младшая сестра. Так оно и было. Мать расчувствовалась, отец выделил денег на цветы, и Елена пошла (Буду поздно. – Да, конечно.) поддерживать подругу. В доме подруги стоял глухой траур с завешенными черным зеркалами и перемещающимися, точно тени, из комнаты в комнату родителями. На них она почти не обращала внимания, а только гладила плечо подруги. Та находилась в состоянии, близком к забытью. Пили чай. Из вазы торчало четыре цветка.
– Тюльпаны, – сказал, проходя, отец мертвой девочки. – Такие слова говорила! – и снова ушел, и из соседней комнаты донеслось его краткое рыдание.
На Елену все это произвело тягостное впечатление. Надо было развеяться. И она ушла к ларькам, где наскоро познакомилась с покупающим пиво курсантиком.
Вернулась поздно. Зажигая конфорку, уронила спички. К счастью, не на плиту. Наклонилась – и стукнулась головой о ручку духовки. Отец уже стоял рядом, смотрел сверху вниз.
– Ну как, поддержала подругу? – в голосе его слышалось что-то нехорошее.
– Да, поддержала.
– А за кого это ты у ларьков подержалась?
Кто ему сказал? Сам видел? Елена ушла в несознанку, устроила скандал – Ах, ей не верят! В этой семье ее убивают недоверием! – плакала и билась в конвульсиях. Отец не понимал. Так и не поверил, что у вечера было первое отделение, а ведь это такое понятное объединение тем – смерти и любви. Любви.
Своих маленьких любовей она не узнавала назавтра, большие помнила хорошо, пока их не набралось до десятка. Антон был из очень больших – за метр девяносто, они любили друг друга уже год с верхом. Крупность Антона сказывалась во всем. Дорогу он переходил тогда и там, где ему было нужно. Просто поднимал правую руку, как Медный всадник, и останавливал любой автомобильный поток. Когда начинал пить, удержу не знал никакого. Рушил, если дело было в кафе, на своем пути столы и витрины, сметал охранников. Елена смотрела на него как на эпического героя. Былинный богатырь писал диссертацию по древнерусскому праву, вглядывался своими татарскими глазами окружающим прямо в лица и похищал половчанок. Половчанка – это я. Елену он не ревновал ни к кому: считал себя несравненным. Потом, когда она уйдет от Антона и впервые выйдет замуж, он будет сторожить ее у подъезда, пробьет в жилье молодоженов на первом этаже ударом кулака стеклопакет, разбросает подоспевших полицейских и заплачет у них на руках.
Но это когда еще будет, а пока Елена тенью скользнула по коридорному колену. Хорошо, что нашлось время побыть с неутомимым Витьком: Антон в университете, а у нее работы сегодня не предвиделось.
Еще живя дома, она задружилась с одним криминальным иностранцем. С одним? С одним, который этот. Тот лет двенадцать назад приехал в Петербург в поисках бизнес-удачи и поначалу преуспел. Возможности открывались фантастические: итальянская фамилия и американский паспорт позволяли входить в серьезные кабинеты, присасываться к лопающимся проектам, консультировать и даже читать лекции на экономические темы. Он входил, присасывался, консультировал и читал. Постепенно его перестали приглашать читать, присасываться становилось все трудней, но входить и консультировать еще было можно, к тому же он обзавелся здесь немаленьким хозяйством, которым надо было управлять. Его угловая штаб-квартира располагалась недалеко от Петропавловки, с одной стороны в окна били похожие на боеголовки минареты, а с другой по ночам сводили и разводили мост. У иностранца Елена проводила много времени, выполняя самые разные поручения: убирала, готовила (последнему ее учил сам патрон), выполняла функции курьера, торгового агента, если надо – обслуживала важных клиентов в качестве эскорта, даже вела экскурсии, не умея отличить ампир от эклектики и едва ли подозревая, что Росси и Растрелли не один и тот же человек. Иностранец проникся к Елене лучшими чувствами, то есть ценил ее, искренне желал добра, а пока что учил добром торговать – от билетов на эксклюзивные вечеринки до пятен под застройку.
Родители этой ее деятельности не одобряли. Им почему-то казалось, что девушке полагается учиться и приобретать профессию, она же не видела различий между профессией и призванием, а призванием ее были мужчины. Конечно, хотелось одежд, сумочек, модных сапог, часов, украшений, но к этому вела не петлистая дорожка курсовых работ и сессий, а прямая – по Каменноостровскому к криминальному иностранцу. Мало-помалу отец, от которого она мало видела хорошего (источником нарядов и сумочек он никогда не был), перестал горячиться, кричать и стукать кулаком в кухонную стенку. Возможно, прекратил попытки понять ее или обратить в свою скучную трудовую веру и правду. Во всяком случае, к каждому следующему любовнику Елены относился все терпимей. Не удивился, когда она ушла из дома к Антону. От знакомства с иностранцем (а Елена предлагала их познакомить) уклонился, но с Антоном, когда они с Еленой приходили в гости к родителям, дружелюбно выпивал. Потом, когда она выходила замуж, неактивно, но участвовал в свадьбе, даже вкупе с матерью помогал молодым снять квартиру – ту самую, в которой впоследствии разобьет стеклопакет Антон.
Отношения с отцом представлялись Елене не сплошной линией, а пунктиром, в котором черточки становились все короче, а пробелы – все дольше.
Черточка перваяУ Елены была отличная память, которая со временем даже стала уникальной. Прочитанную страницу она с первого раза могла пересказать близко к тексту, стихотворение среднего размера выучивала за пятнадцать минут. Когда ей было три, она вдруг стала излагать родителям какой-то ясельный мемуар о событиях годичной давности: о воспитательнице, празднике, наряде Снегурочки и Деде Морозе. Отец, обыкновенно сдержанный в проявлениях чего-то хорошего, резко оживился, подхватил ее на руки, целовал, чуть не прослезился и долго ходил из угла в угол их небольшой комнаты с ней на руках, прижимая маленькое тельце к себе. Елена, вероятно, впервые ощутила идущую от него волну нежности и счастья, как будто для него и для нее сбылось раз и навсегда что-то важное, чего раньше не было.
Черточка втораяДача – дощатая хибарка, прикидывающаяся человеческим жильем. Елену оставляли в отдельной маленькой комнатке, что давалось ей нелегко: гасили свет, родители, нашуршавшись, засыпали, и она начинала бояться. Не чувствовала себя в безопасности по двум причинам: страшно, когда ты одна, еще страшней – когда не одна, но не знаешь, кто, невидимый, рядом. За низким окном разворачивалась призрачная животная жизнь поселка, готовая в любой момент вторгнуться в ее маленький мир. В этой жизни участвовали уже и чердак, и половицы, и стены. Трепетало едва держащееся стекло форточки. Спасительным ковчегом была только кровать, но и в ней не ощущалось полной надежности. Пару последних ночей особенно активно себя вела стена, примыкавшая к кровати: в ней раздавались какие-то ерзания и шорохи, возможно, мышиные. Елена не желала мышам смерти. Когда хозяйка пыталась извести их и насыпала привлекательного корма вперемешку с толченым стеклом, один маленький зверь, смирившись с непомерной платой за сытость, выполз из щели умирать. Елена рыдала. Превращение живого, пусть и не вполне дружественного существа в обездвиженную тушку казалось невыносимым. Но если такое бывает днем, что говорить о ночи? Она забылась от страха, и ей приснилась поликлиника. Елена еще маленькая, мама ставит ее на особый стол для детского раздевания и с треском расстегивает молнию на комбинезоне – но ходунок ломается на полпути, из кабинета на велосипеде выезжает врач и отчаянно жмет на сигнал велосипедного звонка. Елена просыпается: комната наполнена пришедшими извне звуками, и она сама начинает кричать. Влетает отец, включается свет: обои распороты, по комнате мечется небольшая птица. Отец распахивает окно и выгоняет летучую хулиганку подвернувшимся под руку полотенцем обратно в ночь. Они с мамой успокаивают дочку, сидят рядом, страхи тают на свету, и только поникшие лохмотья обоев напоминают о ночном беспорядке.
Черточка третьяВообще-то эта история случилась потом, но рассказать о ней стоит сейчас. Криминальный иностранец, утратив последние российские интересы, все-таки уехал. Елена развелась с первым из своих мужей (еще через десяток лет он последний раз в жизни в квартире своей новой жены пойдет пописать; из туалета его вынесут мертвым; узнав об этом, отец Елены передаст через третьи руки небольшую сумму вдове, оставшейся с ребенком) и поселилась вместе с подругой в далеком спальном районе. Из квартиры почти не выходили. Любовник подруги, мордастый бандит некрупного разлива, приносил им еду, вино и возбуждающие таблетки. Днем они сидели у ноутбуков и проворачивали какие-то темные финансовые операции, ночью устраивали виртуальные эротические сеансы. Подругу бандит бил, Елену только запугивал. Это мало напоминало ту жизнь, о которой Елена мечтала. Иногда говорила с родителями по телефону. Они все еще беспокоились о ней. Во время одного такого разговора, когда Елена путано объясняла, сколько и почему она должна любовнику подруги, отец взял у матери трубку и сказал:
– Просто приезжай. Сейчас.
Елена жила внутри шпионского детектива. Когда подруга вздремнула, она накинула пальто, смахнула в карман с телефонного столика пластиковые карты и деньги и выбежала на улицу. Никто за ней не следил. Всеведение бандита оказалось блефом, страшной сказкой о Золушке и потерянном испанском сапожке. На такси (не брать ни первого, ни второго!) не доехала до дома два квартала, прошлась пешком. Родители обласкали, слушали внимательно, сочувствовали, ни разу ни за что не осудили. Елена вдруг подумала, что последние годы ее жизни, начиная с бессмысленной пьяной свадьбы (очень хотелось разок выйти замуж), были наркотическим бредом, а сейчас она проснулась. Но и просыпаться было страшно: бандит легко найдет ее, и тогда… Эту мысль она до конца не дослеживала, там маячило что-то похуже ночного вторжения птицы. Он позвонил на трубку вечером, когда Елена уже связалась с одним из своих зарубежных знакомых, который оказался готов выслать ей приглашение. Она взяла мобильник, но отец отнял его и выключил.
– Пусть теперь подергается он.
– Он сейчас приедет.
– Посмотрим.
Никто не приехал. За время, ушедшее на обретение паспорта, визы и билета, от него не приехал никто. И сам он тоже. Все, на что оказался способен мордастый монстр, – слать эсэмэски – сначала грозные (найду – убью), потом примирительные (верни карты – я тебя не трону), а ближе к отъезду – почти жалобные (я тебе ничего плохого не сделал). Подруга тоже пыталась звонить и писать, но отец отвечать запретил. Это были плохие, смешные ловушки вчерашнего кошмара, которые требовалось просто обойти. Их денег она не взяла (в запасе были свои), чужие пластиковые прямоугольнички раскромсала ножницами на мелкие части и высыпала в помойное ведро. Родители проводили ее в аэропорт. Уже в полете Елена подумала, как это вдруг они стали ей нужны. И насколько они не нужны ей теперь.
Но до всего этого было еще далеко, а сегодня она сидела, затем лежала, затем вновь сидела в комнате у Витька. В его окна не били минареты: пейзаж с парой кленов, несколькими березками, кустами, травой и микроскопическим футбольным полем съезжал вниз, и вместе с ним сходила процессия детей. Двое из них несли на каких-то странных носилках стеклянную банку.
– Это что? – спросила Елена.
– Короче, похороны.
– Что-что?
– Хомяка хоронят, – Витек рассмеялся (смеялся он хорошо).
– Чтой-то торжественно!
– Они, в принципе, любят.
– Хоронить?
– И это, – снова широкая улыбка, – тоже.
Пока в природе разворачивалось это действо, Елена и Витек успели еще раз полюбить друг друга. Когда в здании стало шумно (дети вернулись), Елена оделась и, выбегая, поняла, что ее засекли. Но сидевший в столовой средних размеров мужичок, явно заметивший ее движение, ничего не предпринял. Такое уже случалось: как-то ночью шаги дежурного замерли около Витьковой двери (Все, сейчас накроют!), он постоял, прислушиваясь (наверняка услышал ее голос, не мог не услышать), и все-таки прошел мимо.
Она выскочила на улицу и оглянулась на торчащую над зданием башню, чем-то напоминавшую ей и Антона, и Витька, и просто занятный мужской символ.
Глава третья
Полигимния
1– Знаете что, товарищи дорогие, время движется, люди это заметили очень давно, но куда оно движется, надо договариваться. Древние пастухи сторожили по ночам стада, смотрели на небо и видели, что луна меняет форму: то убывает, то прибывает. И это повторяется. Получается месячный круг. От месяца, то есть луны. А земледельцы наблюдали за сменой времен года и тоже видели, что все идет по кругу. Засеял поле – один сезон, растет урожай – другой, жатва – третий, а на четвертый лежи на боку, ну, плюс корми скотину и молись, чтобы еды хватило до следующего урожая. Так образуется годовой круг. А есть еще время человеческой жизни – век. Слово «цикл» и означает сразу и круг, и век.
– А мотоцикл?
– А мотоцикл называется так по двум причинам. Во-первых, это век мотора – он всегда ограничен, во-вторых, у него есть два колеса, а колеса – они что? – круглые. Поэтому и крутятся. Вот ты, Гриша, почему крутишься?
– Потому что круглый… – вмешался Гуся и движением бровей обозначил паузу, явно намекая, что ему есть что добавить.
– А мотоцикл с коляской? – гнул свою линию Гриша.
– Умная голова, ты давно думал, почему она коляска? – Комиссар убедительно покрутил ус и просмаковал слово, – коляс-ка. С колесами, значит. С кругами.
Глаза у Гриши от этого объяснения тоже заметно покруглели.
– Так вот, – и Комиссар поднял указательный палец, – еще вавилоняне сообразили, что время течет не только по кругу, но и в одну сторону. Они думали, что назад. То есть предки куда-то уходят, а мы уходим за ними. В общем, с этим можно согласиться. Но потом люди поняли, что все развивается, и передумали. У греков время пошло вперед: от золотого века к железному. То есть сначала было безоблачное счастье, а потом начинаются неприятности. Да, Вася? – Комиссар остановился над Карабиновым, и тот встрепенулся. – Наше с вами время тоже идет вперед, скоро поездка, готовьтесь. Поедем в древность.
– Назад, значит?
– Как договоримся, – Комиссар стал рассказывать о том, что и где они увидят, включил проектор, и на стене замелькали пестрые картинки их недалекого будущего.
…
Сансарыч тоже говорил с ними о времени.
– Что бы вы назвали основным свойством времени? – спросил он.
– Оно, э-э, как его, идет, – отозвался Верблюжкин.
– Вот я тоже иду, – Сансарыч прошелся между рядами парт, – я время?
– Ну, пока идете, это занимает какое-то время.
– Верно. Хождение – процесс, он длителен. Первое свойство времени – длительность. Пока я хожу, длительность выглядит как последовательность шагов, – он занес ногу и замер. Дети тоже замерли: пластика Сансарыча завораживала. – Чтобы опустить ногу, ее сначала нужно поднять, чтобы поднять – опустить. Я могу разделить все время на отрезки – шаги, могу прибавить несколько таких отрезков.
Сансарыч прибавил и дошел до стены, оказавшись в тылу у шестиклассников.
– Но я не время: я остановился, а оно идет дальше. Поэтому мы и измеряем его не в шагах, а в секундах, минутах, часах. В шагах удобнее измерять пространство, но про него мы поговорим в другой раз. Возвращаемся ко времени, – и он вернулся к учительскому столу и присел на него. Теперь одна нога Сансарыча твердо стояла на полу, другая немного покачивалась. – Что я должен был сделать, чтобы покачать сейчас ногой?
– Сесть на стол.
– А до этого?
– Пройтись по классу.
– А до этого?
– Прийти сюда.
– А мог я покачать ногой, сидя на столе, не придя сюда? Никак. Чтобы иметь счастье сидеть перед вами на столе и качать ногой, я должен был совершить некоторую последовательность действий, причем между действиями не было пропусков. С тех пор как я родился, я делал все, чтобы сейчас покачать ногой, сидя на столе. Можно сказать, это была цель всей моей предыдущей жизни. Итак, мы обнаружили еще одно свойство времени – непрерывность. Конечно, отчасти мы можем говорить о перерывах: например, урок прерывается и сменяется переменой. Но уроки непрерывно чередуются с переменами, дни с ночами, и остановок, пустот во времени никаких не бывает. Ну, и третье свойство времени.
Сансарыч не глядя завел руку назад, взял со стола тетрадный листок и сложил из него самолетик.
– Скажите, может этот самолетик снова стать ровным листком, листок – частью тетради, тетрадь – деревом, дерево – семечком? Можем мы прокрутить ленту времени обратно?
– А машина времени?
– Это к Герде Семеновне, пожалуйста, все такие вопросы – по части художественной литературы. Мы не можем вернуться в прошлое, потому что у времени есть еще одно свойство: необратимость. Оно движется от прошлого к будущему и никогда – наоборот.
– А от прошлого к будущему – это вперед или назад? – добивался правды Гриша.
– Я думаю, вперед. Или слева направо. Или снизу вверх, – Сансарыч хитро улыбался. – Вот вам задание: нарисуйте в тетрадях движение времени так, как вы его себе представляете.
Класс зашуршал незамысловатыми принадлежностями; Сансарыч запустил самолетик, который в конечном итоге спланировал на парту к Васе Карабинову. Все обернулись к Васе и почему-то зааплодировали. Вася даже привстал и поклонился.