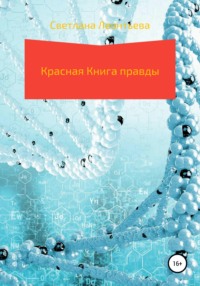полная версия
полная версияПо берёзовой речке
на Автозаводе у лицея номер тридцать шесть,
таких называют у нас старожилами
и певчий наш парк, и деревья окрест.
И руки объявшие ширь необъятно
и взгляд! Кто такой бы во снах сочинил?
Вам дать бы трубу музыкальную, альтом
звучала бы скрипка, вдоль школьных перил
летели бы листья. И слушали дети
безмерную музыку! Анна, молчи.
Не надо об этом.
Трубит сквозь столетья
писатель в ночи.
Вот так воскричать, чтобы тело впивалось,
чтоб тело само вострубило сквозь гипс.
О, чём вы, писатели? Молодость-старость…
О чём вы, писатели? Малая-малость…
Про ярость пишите! Два неба чтоб сгрызть!
Два солнца! Спасайте вы русский язык!
Умрите на русском. На нашем советском.
Казните себя этой казнью стрелецкой.
И вырвите также, как Данко свой крик!
Вот гипсовый Горький шагнул с пьедестала,
в охапку – детишек. Труба из металла
воспела! Рука с арматуры свисала
и дыры зияли разверсто в груди.
О, Анна, молчи! Заверни хлеб и сало
и вместе иди!
Со всеми мы вместе. С несгибшим народом.
С непроданной родиной. Автозаводом.
Трубите, трубите, писатель, родной,
любимый хороший! А гипс в крохи, крошки
сдирается вместе с белёсою кожей.
Труба воспаляется вместе с губой.
И это ваш бой. Ваш немыслимый бой,
глубинный, святой. Что скажу я вам, дети?
Вы слушайте музыку, ибо воздеты
сакральные звуки, где тридцать шестой
лицей на проспекте, что Кирова, справа
от мною любимой большой проходной.
***
Я видела, словно в немом кино: она оседала в снег,
а в чреве её тридцать лун подряд младенчик был, человек!
Довыносить бы!
И мальца напитать берёзовым соком своим.
О, сколько во мне витаминов с куста и сладостей. Поедим!
Вот яблоко сочное: белый налив. Икра и севрюжья уха.
О, чрево моё! Ты возьми и прими, пока он живой! Пока
сердечко его – О, я слышу – люблю – безумнейшее спаси!
Да что же случилось такое у нас на кромке границы Руси?
Народ твой крещёный, Владимир наш князь,
народ твой взращённый на сочных лугах,
и вдруг помирает от выстрелов – хрясть!
От взрывов, от мин…Мрём за нефть и за газ,
помешанный на деньгАх
сей мир! Нити космоса рвутся и рвут
тела наши, о, как глядеть?
Младенчик, пусть тело моё, что приют,
пусть чрево, как дом, там есть пища и снедь.
Как вырвать у смерти тебя, как украсть
воровкой последней, голимой? Ворья
такого не видывал мир! Сунуть пясть,
вцепиться ногтями в мертвеющий наст,
в неё! В оседающую мать, моля,
спаси нерожденного. Небо, земля!
Ору я! Да так, что осипла. Ору!
Сама оседаю на снег, что в крови.
Мертвеющей матери кожу-кору
содрать и достать бы младенца – живи…
Так было когда-то во сне, наяву.
Я в женской больнице лечилась тогда.
Одной роженице – из тех, вековух
родить помогла я ребёнка!
В хлеву
рожают лишь Бога всегда.
О, тёплое семя мужское внутри,
о тёплая сладость, о, млеко, о, страсть!
Я вздумала нынче у смерти украсть,
у тлена!
А вы говорите, что дрянь я и мразь…
Гори эта смерть! Вся гори!
У этой строки, что срывается с уст
и в сердце течёт в сто его корневищ
конца нет и края. Спасти, вырвать, пусть,
хоть в мыслях моих оживёшь, мой малыш!
***
Игорю Чурдалёву
Иногда так бывает со мной по ночам.
вдруг захочется водки, мужского плеча,
но беру вожделенно, читаю я книгу.
Ибо так мы устали от всех новостей,
от интриг, от вранья, от мощей и страстей
и от лжи во кремлях поелику.
Я Покровскою исповедью извелась,
надо мною лишь слово усердствует всласть,
были б гвозди у слов, разве я пожалела б ладони?
В этих пряных, колючих скитаться снегах,
апулеевым осликом – слёзы в глазах –
по пустыням, по сахарным, сонным.
Рваной рифмой по краю пробиты виски.
Игорь, Игорь, туда в эти бури, пески,
где алхимики, стоики, самоубийцы, поэты,
извлекать золотой, беспробудный свинец.
Но тот мальчик в кафе, ты же помнишь, малец?
Пожалей хоть его. Я квинтеты
перерезанным слухом внимаю.
А он
этот мальчик-таджик в белых кедах, что сон,
и в китайских штанах, и в футболке
по-овечьи глядит на тебя и меня,
а затем на меня и тебя, не кляня,
не боясь, не храня. Но его пятерня
как неделю немыта. Шаболки,
две продажные девки, речной стадион:
это перечень наших, прожитых времён
и «братки» в тёмном парке на «Мерсах» и «Джипах».
Да погибшие там, где Афганский излом,
да ларьки деревянные, что за углом,
да вино в алых кружках под липой.
Ресторан. Мне не надо, не надо туда!
Но была я другой в эти дни и года:
мягче, легче, пронзительней, звонче, глупее.
Левенталь да Самойлов, Вадим Степанцов:
в моих книгах закладки и почерк пунцов.
А сейчас даже плакать не смею. Не смею…
По-другому ли было? По-прежнему ли?
Эти кипы-слова, эти фразы-кули.
Сахар слаще и соль солонее, и хлебушко с перцем.
Но ты время тогдашнее нам рассказал.
И поверила я в то, что круг – есть овал.
А иначе, зачем так терзаться мне сердцем?
Птицы ИГОРЯ
Не просто рождённый для литературы,
а для большущей, широкомасштабной.
(Книги его бы купить в «Дирижабле»!)
Опередивший всех сверстников бурей,
раньше рождённый на век – сосчитать бы ! –
Игорь по-Пушкински жил, не вонзаясь,
ни как другие на гору повыше,
что ему гранты, медаль, благодарность,
что ему игры про премии мышьи?
Но не об этом я…ибо обидеть
наших боюсь, что стремятся, стремятся.
Ты был рождён для вселенского, Игорь,
сколько нам лет световых, до Китайской
словно стены – до тебя! Храма Неба,
как до долины Цзючхайгоу или,
как до священного Аддис-Абеба,
что в центре Африки, столько же милей.
Вот говорю тебе, как побратиму:
– Каждую ночь по горящему граду,
словно теряю я в сердце – гори он! –
этот вокзал, эта площадь и рынок.
Ты посмотрел на меня как-то сжато.
Холодновато.
Ответил детально:
– К лучшему всё! Разноцветно, скандально
и сексуально.
Видимо так.
В это время взыграли
скрипки и флейты в твоём белом зале.
Женщины пели. Мужчины сновали
между рядов. Им хотелось, как ты, быть.
Но слишком солоно. Или же сладко
или лесисто у них, или гладко,
иль на безрыбье – они всё же рыбы.
Но не хочу про своих я, про наших:
Осипов, Шкуркин, Шамшурин, Кумакшев.
Может быть, надо поменьше, попроще?
Навзничь, ладони к лицу, глазки к полу?
И под топор целым лесом и рощей,
и под орудия, и под помолы?
Далее: ты рассказал то, что кормишь
каждое утро птиц зимних в кормушках.
Вот я представила сразу наотмашь
их колыбели,
где хлеба горбушки,
зернышки риса, пшена и гречихи.
Вот я представила: тихо так. Тихо…
Кто же, коль будет зима, их покормит?
Бабушки? Женщины? Пьяница-дворник?
Кто покачает вот так колыбели
там, во дворе твоём? Кто карамели,
патоку, ладан и сладкие речи
мне воспоёт, как ты по-человечьи?
Кто же мне скажет:
– Смирись и не верь им,
что за «ля-рус, про тебя написали»,
что за «она про берёзы, про перья
да про князей, про безмерные дали»?
Просто на шаг отойди. Крепость, камень.
Ты не такая. Совсем не такая.
Всё-таки кто колыбели-кормушки
птичьи наполнит? Кому это нужно?
Адрес простой: там, где площадь, налево
рядом с рябиной в Цветаевских гроздьях.
На роль врага, друга ли, кавалера,
на роль сподвижника, что за манера,
был Чурдалёв мне –
учителем грозным!
Мог и одёрнуть. Прервать с полуслова.
Было такое – совсем не общались!
Все обнищали тогда. Обветшалость
«злых нулевых». Но нет, у Чурдалёва
было иначе – кафе, лоск, мобильник
самый крутой.
Мне казалось, он сильный,
он всеобильный
и он всеохватный!
Алеф и аз, элемент словно пятый.
О, хорошо бы, коль я ошибалась,
о, хорошо бы так зло и упорно.
…Всё же, ах, всё же, но кто их покормит
этой зимой голубей? Кто даст зёрна?
***
Мальчик мой, милый мальчик, от нежности я удушающей
захожусь в тихом выдохе, мой лягушонок! Икра
у царевны-лягушки в кораллах! В её обиталище,
в её тайные капища, в жёлтых хребтинах тавра
и в Тавриды её, однозначно крещусь я, вникая!
Мальчик мой, я пронизана жгучей, безмерной, моей
материнской любовью! Для этого – выход из рая
и впадение в грех! И падение! Жальче, безмерней, сильней.
Берегись челюстей ты акульих, и ловчих собак и рыбацких
шелковистых сетей. Ты – из маленьких капельных сфер
да из этой икринки, из царской, что по-азиатски,
из уральских болот да из марсовых спаянных вер.
Кто же тот акушер, что принял у царевны-лягушки
золотые икринки на бабьем родильном столе?
Повивальные бабки, сестрицы, девицы, подружки?
А икра у лягушки нежнейшая, словно суфле.
Я целую тебе ножки-лапки и ручки в прожилках, и тельце!
Мне отдали тебя – зимовать! И сказали мне так:
«Тётя Света, ты выходишь! Ты воспитаешь! И сердце
за него ты положишь! Луну назовёшь, герб и флаг!»
О, лягушья звезда, моя белая – Сириус жабий!
И созвездие псов, что по Кельвину массы на треть!
Утопаю в любви! Льды твои разбиваю по-бабьи.
Хлопочу, мальчик мой, нам гулять, дай шапчонку надеть.
Мне тебя обнимать во сиротство твоё, царской крови
мне в больницу анализы завтра сдавать поутру
с девяти до двенадцати. Смеси к обеду готовить,
и поэтому знаю, что я перелюсь, не умру.
Во зверюшек, во птиц, в земноводных да рыб пресноводных,
в травянистых лягушек, питающихся комарьем,
пауками, сверчками, о, мальчик, любимый мой, сводный,
кабы быть детородной! Не старой, родить бы в тугой водоём
мне братишек тебе! И лягушачьи жёлтые звёзды
всем раздать, как икринки, прозрачные, что янтари!
Но сказать – не скажу, как терзали меня, грызли остов,
как знамёна топтали мои, промывали мне кости,
лягушиные лапки едали тугие внутри.
Никогда я – во Францию! Я на сто франций мудрее.
Никогда я – в Париж! Коль увидеть, то сразу каюк.
Мальчик мой! Утопаю в тебе! Превзойди всех в учёбе, в хоккее,
в небесах, в лунах-солнцах, в прыжках, будь стоног и сторук!
Твоё сердце тук-тук.
Прижимаю, качаю. Ночь. Луг.
***
Захожусь, словно нет воздуха, его не осталось,
от любви, от которой земля горячей.
Всё во мне: это солнце, что жжёт, сладость, жалость,
о, подруга-берёза, о свет мой очей!
Заступаюсь! Моя белоствольная, тонкие ветки!
Я уже не кричу, говорю на твоём языке.
Отвечаешь: я слышу незрячею музыкой редкой,
понимаю тебя! Словно плавлюсь в своём леднике.
И слепым я щенком утыкаюсь в твои руки-ветки
и скулящим лисёнком, лосёнком, убита чья мать.
В моих жилах – твой сок! Твой берёзовый в капельной клетке,
можно вырубить рану – и пить по весне. Насыщать
всё живое вокруг! Ибо мёртвого, сохлого вусмерть,
этих палых деревьев, убитых речушек, озёр.
Пей мой сок из меня! Я тяну к тебе сочные русла,
и ко всем я тянусь, пробираюсь. И мне не позор
говорить про берёзы! Про эти синичьи подгнёзда.
Иногда я ловлю в себе то, что мой говор похож
на вот это шептанье, шуршание вспухших желёзок,
на щемящее! Я перехвачена нежностью. Что ж
удушающе так? Болью в боли твои мне порезы,
о, сестрица…Я в школе дружила с берёзами больше, пойми,
чем с девчатами или мальцом с ирокезом,
даже с птицами так не дружила, зверями, с людьми.
Полнословно и радостно-небно, и лиственно-жарко.
За тебя бы я плавилась в солнце и мёрзла во льдах –
поляница, воительница и заступница я, и бунтарка!
Я листовой бы стелилась в лесах – кожу рви мою! – в парках,
на дрова мои мускулы, плечи, сгорю до огарка
в этих русских лугах!
А сейчас я настолько захлёстнута правдою, что прибывает
и никак не уймётся: хоть вены все вскрыты и хлещет твой сок
вдоль земли всей – на пальцы, на кожу, на Альпы, на оси и сваи
сквозь висок!
Понимаешь, так было со мной, что казалось: весь мир отвернулся,
было столько предательств, подкупленных столько подруг,
я тебе расскажу про серебряники, про иудство.
Но простила я всех, как листву с плеч долой, с кожей рук.
А сейчас всё не больно и что поперёк – всё продольно.
Ибо я у тебя научилась, и ты мне одна лишь пример.
Отступать уже некуда – сзади Москва. Справа море.
Пробиваю я корнем – о, русский мой корень! – семь сфер!
И не надо мне бусы мои поправлять, мех и парку.
Одинокое дерево! О, для чего, для чего
принимаешь ты молнии, словно петлю ли, удавку,
принимаешь ты космос и сущность его, вещество?
И своих не сдаёшь, ни цветы, что вокруг, ни растенья,
превращаешься в уголь, в тепло домовое? Держись
в жизнь из жизни! И я за тебя, о, поверь мне,
птицей ввысь!
***
Неожиданно и бесповоротно
в вас, переписывающих мою историю,
мои детские клятвы, сандалии, боты
и пальто моё, книги, портфолио, фолио,
в вас, наёмников на такую работу,
бурлаков, что на Волге, чьи плечи изранены,
в вас – рыдаю! Кричу я – распятая в сотый,
может, в тысячный раз! Я – молюсь с придыханием,
объясняя, что нету победы над манною
той, что Бог посылает с разверстых небес!
В переписчиков, в вас шлю я кардиограмму
рваным сердцем, читайте! Кто сгиб, кто воскрес.
В соль-диез.
Но не трогайте папу и маму.
День рождения. В мякоть зачатья не лезь!
В колыбельку мою! В Русь мою, в мою родину!
В топь берёз! В мою клюквой растущей болотину!
Ибо ты там утонешь. Там всё – аномалия!
Не касайся меня сопричастно-опальную
и оболганную! Волжский, Окский мой съезд.
Ибо это изгложет тебя. Просто съест
так, как волк из моей колыбельной припевки,
как Садко тот, что в омут, как Кочина «Девки»,
где моя Фиваида, где лимфы желез
и набухших сосков, когда кормишь младенца.
Выпадает заколка. Не держит гребёнка.
Переписчик, подёнщик – скрипит стеклорез.
И нет Слов у тебя между этих словес,
Переписана Речь, но нет речи. Лишь знаки.
Ты мне герб подменил, очернил мои флаги.
Перебитые пальцы мои дел куда ты?
Мои родинки возле запястия где?
Позвоночники-флейты, где? Тот, кто в кровати,
в моей женской на равной со мной широте,
темноте, красоте и сиротстве таком же?
Мою родину вынуть не пробуй! Везде
она! В генах. В крови. В родословной. В одёже.
И меня поднеси ты к лицу, как слезу
до церквушки, до плах всю, как есть до посконной,
до крестильной рубахи.
Всю!
А теперь отрекись от того, что наделал,
от того, что убил, что разбил, что разъял.
Я склонюсь над твоею могилой: «Ах, бедный!»
…Ах, ответь, мне ответь хоть ослепший хорал!
***
Меня поймёт, кто пережил раскол,
развал, раскрой страны моей бескрайней,
ларьки, базары, запах пепси-кол,
табачный бунт в Свердловске, визг трамвайный.
Что девяностые для вас? Разрыв, кульбит,
невыплата зарплат, потёртый вид,
Чернобыль, взрыв.
А у меня – мастит,
потрескавшийся, весь в крови сосок,
пелёнки, каша манная, горшок
и яблоко, замёрзшее на блюде!
Меня поймёт, кто пережил весь срок
на Атлантиде, на «Титанике», о, люди!
Что с нами ныне, присно, завтра будет?
Эбола, вирус пистолет в висок?
Русь!
Обрастай опять землёй и силой!
Зачем тебе напёрстки, шапито,
весь этот цирк, что у стены могильной,
окраина, что всмятку, в решето?
Мы вновь скатились в гроб, в делёж, в раскол,
в преступность группировок.
Не убило,
а вырвало нам небо в сотни жёрл!
Нам снова предлагают алкоголь,
спиваться, развращаться, красть, колоться,
смотреть, как всех Евразий наше солнце
вдруг обнулилось. Единица – ноль!
Кричи, ори, вопи ли, плачь, глаголь,
никто не слышит. Я скажу вам честно,
что в девяностые хотя бы повсеместно
сквозила радость. Нынче только – боль!
Боль за науку, за искусство, за культуру.
Мне кажется, что кто-то пулю-дуру
мне в голову подкожно приколол.
И я хожу, хожу вот с этой пулей,
молю, молю, чтоб вспять мы повернули,
но у «Титаника» один есть курс – на дно.
У Атлантид туда же, Китеж ляжет
и не всплывёт. Не бысть! Не суждено!
Нам всем погибельно! Нам всем темным-темно!
Стоит в просвете боль
за все эпохи.
Раскол не от телес – от душ. Пей кофий,
ешь ананас! Твой, Русь, осажен крест
обавниками, цевью, ведунами!
Стряхни их. Не напрасно же сынами
мы разродились во благую весть!
И я вот здесь.
О, Господи, я здесь…
Кричу, воплю, что, люди будет с нами?
***
Опять весна, и воздух абрикосный,
мне дым костров, как запах париросный,
весь день Саврасова мне видятся «Грачи».
И умирать не хочется. Ни капли.
От вирусов, от пуль, от стрел, от сабли.
Грачи нас прикрывают: крылья, спины,
Прикрыл нас Игорь Грач строкой глубинной…
Что чувствовал он в этот день, где снайпер
сидел, прицеливаясь? Вешайтесь, рыдайте,
но лишь не надо обобщённых мыслей, слов
родне и маме, тёте, сыну, всем нам!
А чувство родины – хребетно, внутривенно.
А чувство родины – основа из основ.
А умирать не хочется. Ну, право!
Вот одуванчики – птенячии цветы
комочками желтеют. И холсты
Саврасова повсюду: вдоль канавы,
в дубраве, и в орешнике, в саду
пошарпанные ветки, как шрапнелью.
Грачи и вправду, вправду прилетели!
Они не знали, страшно на виду
спешить в одной колонне на прицеле.
Ты нас прикрыл.
А чем тебя прикрыть нам?
Каким ребром, предсердием, молитвой?
Каким увидеть зреньем? Слепотой?
Под дымчатой да под густой листвой
не отсидеться нам в домах высоких.
Не оградиться ни щитом, ни блоком.
Вот, говорят, географ глобус пропил,
но ты не верь! Верь только слову – Грач!
Что прилетит пернатый, окрылённый
строкою, песней да слезой солёной,
и будет бесталанным всем жескач.
А кто убил, стрелял, тот гадкий сволочь!
Настанет время – утро, полдень, полночь,
но суд свершится, человечий суд.
Наступит время твёрдое, как камень,
и каждый Ирод, каждый Брут и Каин,
да что там Каин, небеса падут!
Убитые поднимутся. Я знаю.
Поруганные встанут, вой, кричи:
– Огонь! Ах, суки! Родина…родная…
Летят грачи. Летят твои грачи!
ОДЕССА. 2 МАЯ
––
Корневище русское проходит сквозь меня,
сквозь мою землю, её белокрылые оси!
Сквозь сердце, сквозь волосы изо льна,
прорастает в мой позвоночник, в мои крепкие кости!
Прорастает, пропитывается, мою влагу пьёт.
Пробивает пространство. Прорезает высь и выше!
Я в его тени. Мы все, мой народ,
сквозь нас растёт русское корневище.
И когда мы все выходим на Соборную площадь,
заслышав музыкальный его, высокий звон,
русское корневище прорастает сквозь толщи
всех прошедших и будущих всех времён.
И какими бы ядами не поливали нас,
дождями кислотными, фосфорными, губительно атмосферными,
но несбитый ритм корневища – наш запас,
не простреленный пакостью, гнусностью, сквернами!
Спросите, каково оно на вкус, каково оно на цвет, спросите?
И, если не секрет, каково оно на запах?
О, как сердце щемит мне космической россыпью,
я в его утопаю масштабах!
Им наполненная до краёв.
Это то, что спасает. Это то, что пронзительно губит!
Со времён мирозданья, из плача всех вдов,
из купелей сыновних сугубо.
Из материй берёзовых, шёлка дубов.
Это кров. И библейский Иов. И покров.
Это дедов сундук. Это рёв у гробов.
В каждом грамме его сто пудов, сто трудов.
Люди!
Корневище русское – это Авель, не убитый Каином!
Корневище русское целует каждое утро Бог.
Трогает. Обволакивает. Громит идолище татарино.
Впивается в гортань. Просачивается в слог.
Я не могу отступить, ибо сколько наших сгибло в концлагерях.
Сколько наших сгибло в армянских сёлах от ятаганов.
Сколько наших – однокоренных погибает сейчас на полях,
сколько сожжено в Одессе кучкой купленных хулиганов.
––
Вижу: у сына моего лицо сосредоточено.
Вижу: мои платье, пальто, туфли в пакетике.
Сын, немеющий взглядом: трава, ров, обочина.
Дом профсоюзов горит, дым невзрачней синтетики.
Кто же сейчас Герострат? Кто же Нерон? Мир горит…
Мне так дышать тяжело, как не дышала я вовсе.
Ворон кричит…Но как я, там оказалась внутри?
Значит, пришла я с людьми, люди с меня после спросят!
Сказано же: «Всем Домой!» – Дом профсоюзов в огне…
Сыне мой, мальчик, прости! Вижу: руками ты впился
в воздух, чернее земли,
в воздух, чернее камней.
Жаль, не успела сходить в церковь и в Лувр, Моно Лиза
вечной улыбкой свербит там, обнажая любовь.
В Рим не успела я, и в Токио, и на Манхеттен.
Всё-таки, кто Герострат? Кто натаскал столько дров?
Гарь, духота, пепел, звон. Бьёт прямо в грудь меня ветер!
Ветер – Одесский, родной. Значит, успела сюда.
Вижу: котят, голубей много их, о, как их много!
Я же сгорела тогда, враг-Герострат, таки да,
голос поджёг без труда, книги горели, дорога…
Не пожалел он детей, малых моих – сына, дочь.
Я умоляла, не жги!
Только Нероны на скрипке
жадно играли три дня, жадно, пока тлела ночь,
жадно, пока дождь не шёл липкий.
Вижу: оленье моё тело большое, как мир.
Вижу: я волчьи глаза, чую, клыки рвут до крови.
Не уходи. Не бросай. Не исчезай. Глядя в ширь!
Но ничего нет нужней, дочерней любви и сыновьей!
––
Ослепляет глаза мои нежность до такой слепоты,
что я внутренним оком весь мир созерцаю, весь космос!
Мой сыночек, Павлуша, пишу тебе, до хрипоты
проговариваю слово каждое. Помню, как рос ты!
Твои ручки и ножки…любимее нет и родней.
Я пишу отовсюду. Из этого времени или
из блокадного города – города сотни смертей,
из сожжённого в топке, сгоревшего я Чернобылья.
Из Мологи утопленной, о, как Калязин мне жаль,
я пишу из-под башни вмурованным, сдавленным слогом…
Вот я трогаю камни шершавые: сбитая сталь
прежних букв…Но не верь никаким эпилогам!
Обнимаю тебя. Сколько нежности светлой, льняной
из неё можно ткать и пути, и дороги все в шёлке!
А все матери маются этой прекрасной виной,
что не всё отдала, что смогла, я твержу втихомолку,
что могла бы дать больше я знаний, умений, идей!
А сейчас, а вчера я из прошлого, из Ленинграда
вот пишу, визг снарядов и вой площадей,
мама, Веня, соседка…хочу про живых, про когда-то.
И про то, что мы встретимся! Запах цветов, имбиря
и берёзовых почек. Что русский всегда про берёзы,
выживают они вопреки, а не благодаря
даже с этою раной в боку там, где слёзы.
Нынче были в музее… хотя виртуально давно.
Я пишу из всех памятников, гарью пахнут кричащие буквы.
Покроши хлеб и просо, как было когда-то, пшено
голубям, воробьям, белым чайкам на Волге у бухты.
Я по клюкву ходила, и я приносила грибы
с золотистыми шляпками, жарила с луком, картохой.
И не верь, что мир – прах. И не верь, что могу я не быть,
мой кровинка, мой кроха.
***
Сном распахана, разъята. Сколько можно?
Сном изъедена, измолота подкожно,
сном сожжённая – добраться как до дома?
Не рожаю я, а становлюсь Мадонной,
сколько есть, свои оплакав смерти
в той плавильне из лугов, из цвето-тверди,
выправляясь из своих тугих девичеств,
не мою ли пишет грудь во снах Да Винчи?
Мать кормящая. Родящая я – матерь.
Заслоняющая от беды, от смерти.
Если надо, то меня терзайте,
а его не смейте!
Лиф на лямках, на резиночках под грудью,
вся молочная, летящая, от века.