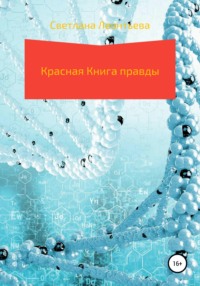полная версия
полная версияПо берёзовой речке
Если помните: в желёзках набухает
ежечасно, сладко-сладко, беспробудно,
прибывает человеческое млеко.
Эти сны…я – космос. Невесома
от щемящей нежности. Открыта
грудь. И мой ребёнок полусонный
чмокает. Он кушает. О, жить нам
много вечностей так, как Мадонна Литта.
Против смерти заварю тугой бессмертник,
безтревожник,
бедбедовье – чудо-травы.
Состою я вся из сердца, из предсердья.
Вся – любовь я! А в любви мы, люди, правы.
Выдолбить картину мир не сможет
из меня, когда в гвоздях ладони, ступни.
Там мой сын. На полотне. Я тоже.
Дай протиснуться, народ, по перепутью.
Дай обнять…поцеловать дай пальчик каждый!
А народ толпится, рвёт подкладку.
Билетёрша зрит по Эрмитажу,
и охранник, и смотритель по порядку.
И сочится молоко. И прибывает
у меня в груди, течёт по кофте.
Тычет в спину билетёрша: «Приготовьте
для прохода свой билет!» Я, как немая,
как дурная. Мне б проснуться, сколько можно?
Сном распахана, измолота подкожно,
подреберно, все свои оплакав смерти.
В моём чреве – в животе огромном дети.
Я – родильня! Угль горячий – я! Я – матерь!
Эрмитаж.
Билет в кармане.
Нате.
***
Да, разве не в меня стреляли там, в Казани
один какой-то псих, обзаведясь ружьём?
Уж лучше бы в меня. Стрела ли, пуля, камень…
И вот рыдает мать, склонившись над дитём.
Вот кофта, вот пиджак, вот рюкзачок обычный.
Я ухо приложу к земле: земля дрожит.
Всё – больно.
Всё – кричит.
Всё колет раной личной.
Я не могу, когда детишек рвётся жизнь!
Вот если бы лежать заместо их там, в школе
да посреди двора. И красный бы цветок
рос прямо из меня. Как будто бы я – поле.
(И не было контрольной, задачки треугольной).
По мне, по мне иди, тяжёлая ступня!
Да разве не в меня стреляли там, в Казани?
В меня, в тебя, во всех, кто рядом, кто везде.
Да, лучше бы в меня, чтоб чудными глазами
глядеть, глядеть поверх в дожде и чистоте.
Во всю Казань – в упор и в Хижицы, в молитвы.
И в крики: «Изыди!», и в Оптину пустынь.
Не сердцем думать мне, а этим – сквозь пробитым,
растоптанным насквозь и с ритма болью сбитым,
левее, что стучит в ребро в жару и стынь!
Казань мне кожу рвёт и колет в подреберье,
и топит, как в любви в младенческой крови…
Что может быть страшней окраин у империй?
Что может тяжче быть войны, чем, где свои?
Вот так уходит в ад исчадье злее ночи.
Вот так уходят в рай светлее, чем сам свет.
И только слышу вой и стон:
– Прости, сыночек!
– И, доченька, прости!
И ангел плачет вслед…
***
…Я там в каждом доме горящем, в стволе абрикосовом,
пораненном пулей, но всё же цветущем отчаянно.
Когда же закончится эта война високосная?
Там люди! Живые! Они своей плотью там впаяны.
Как бросить свой дом? Свою землю? О, нет, не получится!
Театры и улицы, скверы, дороги и станции.
Я руки свои простираю – гляди, простираются
они через небо! Сквозь камни и топи зыбучие.
А там – люди лучшие.
В шахтах шахтёры. Там дети шахтёрские.
Станицы. Ты видел сады их цветущие, майские?
Глядит Богородица в храме очами раскосыми,
глядит так, как смотрят все Матери.
Как в «Слове» единственном, что «О полку» и не выгорит:
«усеяно» поле костями, улитое кровью.
Вот так прилетают грачи: Грач – фамилия Игоря,
убитого в центре Луганска. Доколе нам
засеивать поле собою? Как семенем, злаками,
собой, как пшеницей, собой,
как цветами,
как маками.
…Я, Игорь, не просто рыдала! Я выла. Я плакала
с отчаянья в Нижнем. Ужели тела наши лакомы
всем пулям,
всем минам,
разрывам, снарядам, атакам ли?
Геройская смерть… Отчего не признаться по правде нам,
и Крымской весной не пойти нам до батюшки-Киева?
И флаги чего ж не нести? Отчего не спевати нам?
Ужель осужденья боимся Америк? Чего, мол, «содияно»?
Куда же, мол, сунулись?
Ты поручила б, Россия нам,
я тоже бы кинулась в пекло! Поэту – поэтово.
По полю бы шла, где пшеница. Я столько налайкала
сердечками там, в интернете, забыла, однако, я,
как выглядит сердце моё, к небесам что воздетое!
Что болью задетое. Вбитое! Вместе спиваем мы…
Давайте же вспомним всех их – воевавших писателей:
Толстого, Дениса Давыдова и Полежаева,
Прилепин – не чай же он пил на Донбассе с приятелем!
…Я, как Магдалина, власами бы раны их гладила,
ещё подорожник прикладывала бы, сердечная!
Ещё бы на раны я дула.
Ещё бы я ладаном,
ещё бы я мёдом,
целила бы русскою речью…
***
Сквозь сок берёзовый, где белая кора,
сквозь нас, сквозь мироздание по краю
в нас прошлое, из полдней в вечера
просачиваясь, в бездне исчезает.
Вчерашние! Ты, вы, они и я!
Вчерашний хлеб, черствеющий в тарелке
и песня Галича: навыворот меня
перетряхнувшая, идущую по Стрелке.
Свои, свои! Мамай им всем судья!
Свои! Они-то знают, боль где ходит.
Свои! Они всех жальче уязвят,
смертельней всех, убийственней – сородич!
Земляк, земляк…с тобой одна река,
почти одна постель – земля пред нами.
Ты мог, меня увидев, окликать,
в авто ко мне садиться. И слегка
меня коснуться тёплыми руками.
Мне не нужны, казалось, щит, стена,
бойницы, Кремль, Пороховая башня…
Прав Галич, прав: свои – как это страшно!
Страшней Мамая, банды, пахана.
Казалось, всё! Черта! Отомщена,
угвождена, разбита, сметена,
как гипсовый Ильич до арматуры.
Охаяна, раздроблена, бледна,
вот видишь, на полу всю ночь без сна,
прижав колени к животу гипюра
и в чёрных, в сеточку чулках, одна,
накинув лишь халат на тело, силясь
прогнать все мысли, тяжелей что гири,
но прёт нахально, словно грудь, где вырез:
– Мамая хуже, во сто раз Батыя
свои, свои, что были мне родные…
И не кончается вчера, позавчера,
свои приходят так и убивают,
свои приходят так и распинают,
раскрыла душу – оскоблили до нутра!
Всё, всё не буду…где гидазепам?
Ты говоришь, я – наглая буфетчица,
дешёвка, неудачница, не лечится
твой нарциссизм!
Но всё равно всем вам
я благодарна трижды, сорок три.
Мамая хуже, Галич прав, свои.
настолько хуже, что нет лучше их,
об этом стих!
КОЛЕСО МИРОЗДАНИЯ
Млечный праздник бремени: восхищения, вёсен, всхождения,
мир рождается вновь из пылинки, из праха, песка,
вот песчинка,
зерно,
вот безумство горячего семени.
У земли вечный тест – две полоски. У материка
ей неважно, погода какая, напасти на голову, плечи.
И неважно про возраст, про вечность, про глады и мор.
Вся земля, словно питерский житель, отличница вся – человече!
Вся огромная матерь, очами глядит что в упор.
– Да какой там раздор, мои дети, зверьё моё, птицы?
Да какие там шашни? Мне время родить, воскрешать!
Моё сердце огромно, что даже в груди не вместиться
и такого же точно размера бессмертна душа.
– Люди, люди любимые, горлицы певчие, голуби,
люди, люди любимые, вас заслонить, уберечь.
Там на склоне Тартания и Черемисы Нагорные,
луговые да травные, да Арзамаская речь.
За Узолой Камелия да за кирпичными лавками,
за дощатой палаткою с водкой, вином и водой.
– Люди, люди любимые, это же я вас залайкала
Плачами Ярославушки, сборником «Домострой»,
да «Голубиною книгою» да «Житием Аввакумовым»,
Невским, Тарасом, Иванушкой – вот оно наше родство!
что пуповинно, лукумово. Нет, умереть, вы не умерли,
в чрево легли моё, лоно вы, в прежнее естество.
– Люди, люди любимые, вас я приму искалеченных,
измождённых, пораненных, гордых ли, нищих, любых.
Все равны, все лежачие, все для меня птахи певчие:
спины, ребрышки, головы, вены, косточки, лбы.
Ничего мне не надобно – ни авто, денег, прибыли,
ни домов ваших, платьишек. Только тело и всё!
Снова буду беременна я из небыли, были ли
от пылинки,
от зернышка, раскрутив колесо.
***
Вся жизнь, как мучительное прикасанье:
чужою судьбой обжигаю себя я.
О, сколько мне раны, как в притче, власами
друзей отирать, воздух жадно глотая?
До самого мая.
Я думала, что всё наладится скоро.
Как я ошибалась, наивная дура.
Всё также прямою наводкой по школе,
всё также от взрыва горит арматура.
Открытое настежь распахнуто поле.
Глаза тех людей, что сейчас под обстрелом,
вы видели?
Это такой сгусток боли.
Смещается сердце куда-то сквозь тело.
Глаза – два огромные озера словно.
Глаза, словно два «О полку» вещих слова.
Глаза – жуть Ледовых побоищ, что возле
Вороньего камня, на Узмени слезы.
Глаза – Марианские впадины. Жёлоб,
как будто космического измеренья.
По полю иди! Под обстрелом тяжёлым,
а после, старушкою, встань на колени.
А ноги, как ватные, как деревяшки
негнущиеся! Мышцы, косточки, хрящик.
Мне Ольга Арент говорила, как братство
слова её были. Как к тетке добраться
моей, что на линии фронта. Да, фронта!
И фильм снял про Зайцевский Храм Полубота.
Красивы люди! Алеша и Ольга.
О, сколько они пережили! О, сколько!
А в Харькове – в городе доброго сердца
подруга живет у меня Владислава.
Стихи её –
космос сумел бы согреться,
стихи её –
в Арктике сделали б лаву.
Так вот: написала, что укрофашисты
стихам не открыли проход и границы!
Доколе, доколе, доколе, доколе
идти нам сквозь пули по этому полю?
Стреляй, гад! Я здесь в шелке из Магеллана.
Ты целился плохо.
Вот – рана.
Она никогда не затянется боле,
рву пуговки я на груди: целься что ли!
Здесь церковь сгорела. Детсад разбомбило
с игрушками – мячик, медведь, бегемотик.
Огромное в небе сияло ярило –
горячее солнце всеобщих прародин.
Теперь нам куда? В совпадение музык
на этом открытом всем пулям пространстве?
Уйти не смогу, я – тот смертник, тот лузер.
Уйти не смогу.
Так же, как и остаться.
***
Лён волос твоих гребнем зубчатым чесали,
разбавляли свинцом, ртутью магний и калий,
выпекали из магии соцреализма,
терпкий запах огня, серы в плавком металле –
ты невероятно сияла, отчизна!
Через тернии шла, пронесла свои драмы.
А теперь до тебя далеко – через космос,
не достигнуть алхимий твоих, горный камень
не добыть философский!
И к очам не приблизить твои мне Сатурны,
никогда на просвет не узреть эликсиры,
вологодских коклюшек стежки и ажуры,
ты была небоскребной,
была неотмирной!
Ты была сверхдержавой.
Я руки держала.
Каждый пальчик натруженный я целовала.
Перековывали тебя небылью ржавой,
а под веки вливали кипящие лавы,
и мечи отбирали твои и забрала.
В подреберье теперь ноет больно осколок.
Ты на «после» и «до» мою душу вспорола.
Не уйти. Да и некуда. Если бы было,
где же каплю мне взять твоего эликсира?
Этих Гербертуэллсовых изобретений,
невозможных, щемящих всхождений, борений,
нам ничто и никто тех комет не заменит,
чтоб вышагивать из обветшалых столетий.
Эти колбочки, трубочки, жар атанора.
Мы тебя высеребривали. Самоцветье
в твой хронограф сбивали.
Мы на киновари,
словно гвозди оплавились жарко и скоро.
Как Адам из ребра сотворил свою Еву,
так отцы наши, деды тебя сотворили.
А теперь, я спросить боюсь, где мы, где все вы?
На каком из колечек сатурновых или
на обносках последнего рая в изгнаньи,
словно жертвы бараньи?
Боль и ночь на закате.
Косы длинные – нате.
Я, как тот обреченный, иду на закланье.
Глаз не видит один. Слух не внемлет. Заранее
подставляю я спину, чтоб выжгли мне звезды.
Отреклись от алхимии – вбитые гвозди
до сих пор из ладоней торчат. На берёсте
полыхают – аз, буки, глаголы и веды.
…Воздух жадно глотаю, хватаю ноздрями.
Были ею наполнены, нынче воздеты
на крестах мы ея, той страны, что не с нами!
До которой лет двести лететь – не достигнуть,
до которой по тропам немыслим синим.
О, мне кабы в алхимики, в поиски эти,
заблуждения, яви, что инопланетны.
Мне вливать серу, печь уголь, золото видеть,
запах свежего хлеба и сыра у сердца
на далекой, что в кольцах оплывших, планиде.
Не достигнуть её.
Не усердствуй!
***
Наверно, птицами, чтобы прижавшись, рядом
вот так сидеть в гнезде, чтоб близко-близко,
а, может, облаками мы над градом
с тобой плывём, где жарких молний высверк.
И –
за руки, мечтала я – мы в небе.
…Вот мы и встретились, увиделись, случились.
Но разве в клевере, в меду, в песке и хлебе,
но разве в этом льне тугом, что гребень,
в реке, в тугой воронке, донном иле,
как наваждение моё, как сон, с тобой мы вместе.
Прижавшись пуповинами, лежим мы,
прижавшись сокровенным самым тесно,
зашкаливает пульс, шепчу: «Любимый!»
от жажды пересохшими устами.
И сводит горло песней, стоном, криком.
…Наполненные просто облаками,
наполненные птицами, чтоб кликать.
Нас прежних, нас разбросанных судьбою,
(лишь циркуль знает пропасти на карте),
и всё же в глине, в клевере, в левкое,
и всё же, в порванной от боли, миокарде
совпасть опять,
опять побыть с тобою.
Как тот Пигмалион – тебя из глины,
как Микеланджело тебя тесать из камня,
как Данте ад – тебя создать! – пари он
над этой бездной, падая! Вздымая!
Меня пугает, нет, ни небо, где мы,
меня пугает ни земля, в цвету вся,
с шальных дождях, ветрах, что неизменны,
а эта сладость до и послевскусья.
Всё детство и вся юность твоя, взрослость –
целованная мною беспробудно.
В кого влюблялся, кем отвергнут остро,
кем был притянут, с кем встречал ты утро,
и сбитые колени об асфальты,
и шрам, что на спине, стихи и даты,
и сколько ревности в тебе, все неудачи,
и недостаточность таланта иль избыток.
От нежности я – невесома. Свиток
раскручиваю: вот футбол, вот матчи.
Неважно, живы мы.
Неважно, с кем мы.
И сколько раз оплаканы могилы.
Но я твои держала руки, милый,
ладони гладила. Всем телом я на землю
бросалась рядом…трогала её я
вот эту глину, клевер, мед, кувшинки.
Мы, вопреки, но целое с тобою,
а без друг друга, право, половинки.
***
Вернись, я ещё помню твои звучные точки-тире,
вернись из Афгана, Чечни, Великой Отечественной,
вернись, мой десантник, с тобою за ВДВ
мы, не чокаясь, выпьем.
Клади свои руки на плечи мне.
У шершавых ладоней мозоли, где пальцы в курок
упирались. О, как мне не помнить, не знать твою вечность?
И теперь криком мне разжимать обескровленный рот,
сколько б ни было лет, ты вернись, ранен ли, покалечен.
Хоть во сне покажись, пусть античном, где шёлк Эвридик,
шерстобитная пряжа времён путеводных и чистых.
Это веслами бьют корабли Визинтий. Маховик
тихо-тихо вращается вдоль побережья, вдоль мыса.
Вот повержен душман, вот повержен в горах боевик.
Урони свою голову прямо мне в крылья коленей.
Виноград моих губ. Телом тело моё разомкни.
Этот детский испуг, он почти не людской, он – олений.
Я давно просыпаюсь и долго, так долго лежу
на кровати, где простыни, о, не из ситца, не бязи,
а из тонкого шёлка. Горячей рукой абажур
повернула к стене.
Я хочу тебя чувствать в свЯзи
с этим миром, со мной, с нашей родиной, что спасена.
Ты её заслонил. Мне теперь бинтовать твои мысли,
мне от ран защищать все слова те, что в смерти зависли,
мне осколки выскрёбывать из смс, из письма.
Дай мне знать.
Дай мне знать! Вот рука моя, грудь, вот спина.
Со щитом, на щите, как врезаются люди в ущелья,
как врезаются в землю. Как пульс за сто двадцать. Черна,
как от снега земля. Как бела она от всепрощенья.
У меня вся вселенная в этих ущельях шумит,
у меня во галактике столько костей позарыто.
– Лучше смерть, – вы кричали, – чем плен! Вы вставали, что щит.
ВДВ, ВДВ – в этих буквах три главных защиты.
Воздух – первая «В», кислород, углерод, горло рвёт,
«Д» – десант, то есть группа, как целое воинство в поле.
Я хотела бы выкричать эту любовь, где моё,
а не общее, но не могу, не могу в общей боли.
Ледяные громады гремят. Так, наверно, гортань
прочищали все русские боги. У той Алатыри
был Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья
достоверный наш Муромец. Можно ли быть богатырьей?
Лишь тельняшка твоя, что на полке хранится в шкафу
и берет со значком, твой альбом, что из армии, бутсы,
бирюзовыми флагами, всем, чем могу, тем зову,
а, точней, заклинаю: вернуться!
***
Перевези меня, ладья, на тот берег,
хочу видеть могилу Олега Вещего,
да не надо мне старицу в сонме безверий,
эту речку засохшую, патоку, трещину.
Там высокий курган близко-близко от Ладоги,
подорожник, ковыль, мать-и-мачеха чёрная,
горицвет да сурепка. Хочу, хоть ненадолго
я прилечь у подножья, шептать…ах, о чём же я?
То, что жизнь протекает: века да столетия,
а я всё про хазар, про древлян да про кривичей.
Этот холм, где схоронен Олег, благолепнее,
убедительнее многих жизней ковыльничих.
Вот потянешь за леску – и столько нацепится,
моё сердце скользящее, круглое, красное.
Вот убитый Аскольд, Дир на палубе. Лезвие
одинокой звезды. Не была, но причастна я…
Ибо лезвия тоже коснулась отчаянно,
то ли в явь, то ль во сне. Где могила Олегова,
возле, возле лежу и пронзаюсь мечами я
из-под дёрна, я травами, цветом, побегами.
Между нами – лишь воинство батюшки-Киева
да луна Микеланджело, мрамор Раденовый.
Новгородская летопись мне даль повыела,
то ли в небо – с окна?
То ль пластать нынче вены мне?
Но семья.
Но детишки.
Держусь я поэтому.
Нет страшней тебя, доля, чем доля поэтова.
Как Боян буду петь, прислонясь ко всехолмию,
в глине, вязкой земле, в медуницах и заводи.
Вот упал Олег Вещий сюда камнем, замертво –
на себе рву волосья, о как бы не помнить мне! –
от укуса змеи, череп пнув,
что уздечкою
опоясан серебряной. Крик разрывается
на сто криков в восточную сторону, южную.
Я от боли той плавлюсь, тону в древней алости.
О, не думать мне как?
О, как сдюжить мне?
От потерь я старею на тысячелетия.
Лодка, лодка, сюда! Прямо к берегу, в глине что,
От сожженных мостов становлюсь я приметнее,
от имён, прикипающих к рёбрам – не вынешь их!
Километры тоски…
Световые.
Сатурные.
Расстояния, как до безумнейшей родины.
Меня время кукушечье жжёт корнеплодами,
сребролюбцами, мемами, взорами, дурнями.
Прожигает мне сердце от ребер до лифчика.
Мне бы землю с могилы Олеговой горсточку,
хоть песчинку, хоть зёрнышко, кроху кирпичика.
Снятся вещие кости так, что больше мочи нет.
Кто ещё в высь придёт? Кто лежать – вместо пульса вам
будет здесь вот в меду, в росах, травах, смородине?
На ладье кто? Какая такая экскурсия?
Ибо ветер. Цветы прорастут, не отпустят уж
до нутра. До хребта. До любви. До исподнего.
…Не плевали такие, как вы, в спину родине!
А щиты водружали на стены царьградские.
Неразумным хазарам, сколь мстить? Нету разума
и не станет его никогда. Азиатские
с неба солнца стекают в ладони алмазами.
АРЗАМАСКАЯ. СОЗЕРЦАНИЯ
– И доселе грозить будешь мне? – рявкнул Гришка Ильин,
перекинув Алёнину саблю во левую руку.
…Вот четыреста лет как прошло, словно миг лишь один,
все четыреста лет, что испытываю в сердце муку.
– Ну, целуй меня в очи, я – баба твоя, Арзамас!
Я – поддёва твоя, я – чернавка, я – женщина-птица.
Говорила Алёна спокойно, светло, без прикрас,
за тебя, Арзамас, сгрызла неба железного спицы!
– Ах, ты, стерва! – в лицо ей кричали в неравном бою. –
Что за ритм, что за АЛЁНА бег, что за крик, что за красное солнце?
…Погружаюсь в века ли, иль ввысь восхожу на краю,
оступилась – и в пропасть по-нашему, нижегородски.
А предатель – Гришатка Ильин целит саблею в лоб,
целит так, что я чую Алёнино там, в груди бьётся
кабы сердце, вся жизнь её: ребрышки, скулы, живот,
перекошенный – сгиньте, предатели горькие – рот!
Вахлаки, лизоблюды, князья, да холопьев уродцы.
Как схлестнётся, бывало, тяжёлая наша судьба,
наше нищенство, мыканье
с самым богатым ублюдком.
У Алёны поверх монастырского платья, покуда стрельба,
мужиковы доспехи, подол её юбки вверх уткан.
«Ты сидела бы дома. Ну, чем не тепло закутка?
Чем не белая церковь? Ужели есть белого чище?
Родила бы мальца. Целовала б животик. Пупка
розовела б ракушка. Была бы ему кров и пища.
Как из женской груди бы текло молоко, ешь, малыш!
О, была бы питьём – ты! Едою! Любовью земною!
И зачем тебе конь? И зачем тебе лук, стрелы? Ишь,
то не бабья дорога! Не бабья судьбина: войною
да за Разиным Стенькой? Зачем? У него есть княжна,
у него персияночка, войско да сабля-жена!
И тебе ли болеть всей Россиею? Всею страною?
Не пророчица – баба!
Сидела бы в монастыре,
вышивала бы, шила, ужо у нас щи да картоха…»
«Нет, о, люди, на печке привольно лишь телу. Но плохо
огневице-душе.» Отвечала Алёна: «Я б сдохла
от тоски на заре!»
Ах, ты пижма моя, золотая трава, приневоль,
ах, ты цвет ярко рыжий мадонн огнекрылых в Париже.
Кабы миру, земле нашей, кабы пуховую соль,
но воительницам не по духу, иное им ближе.
И не так, как сейчас, пошумели бы да разошлись.
Кто в Украйну, кто в Польшу, в Прибалтику в тёплые дали.
Арзамасья Алёна – ей смерть!
Восходить на пожаре…
Как огонь её тело лизал, как вонзался в угаре,
как уголья чадили, крестили багряную высь.
А я трогаю землю: там пот и безумье эпох,
там Аленина кровь просочилась в песок да суглинок!
Мне в ладонь. Леденящая! Рвёт из груди моей вздох:
это птица кричит.
Это клонится к травам рябина.
На каком говорить мне на русском святом языке,
языке пепелищ, языками воды со страною?
И невольно я руки тяну: вижу, тянутся руки к руке,
как объятья веков, что смыкаются мне за спиною.
***
Только вечер: вино, хлеб, стихи, нужный – он!
Тот, который ушёл, было так: буря к буре.
Говорил, что влюблён. Да, конечно, влюблён.
И ещё, может, любит де-юре
и де-факто. Такая любовь. Проще мне
камни, шпалы таскать – вспухли нежные вены.
И такая любовь, как предательский зверь
всей груди расшатавший мне стены.
Всей груди моей крепость разрушивший и
укрепления.
Пал, сломлен, солнечный город.
Разбомблённый, растерзанный до полыньи,
до руины раздавленной, голой.
Проще вечера ждать, чем с тобой говорить,
камнетёсом выдалбливать в камнях и в скалах
новый город с гигантскою нишей внутри.
Вот и я бы тесала, тесала.
До медовых, до яблоневых, травяных,
до рябиновых, ягодных, до сладкой ваты,
до янтарных, рубиновых, до гвоздяных
телефонных звонков виноватых.
Словно можно с другими тебе изменять.
Словно можно молочную, детскую кожу
мне выгуливать. Ты – не понявший меня,
не принявший, не вникший, достать как? Вморожен
ты в грудную пробоину. Чуть зарастёт
и опять кровоточит душевная рана.
Ты – обманная вера моя, кровь и пот,
ты – легчайше тяжелая ноша, нирвана.
Без тебя я, как без половины себя.
Вот представь: половина руки, глаз и тела.
Звонарями бессонниц…сама так хотела –
Микеланджело глупый! Роден сентября!
Камнетёс – я! Кайло, молот, куча вранья,
в оперенье синицевом от журавля!
Только вечер один, повечерняя жизнь:
как чистилище, выгиб и атомный взрыв –