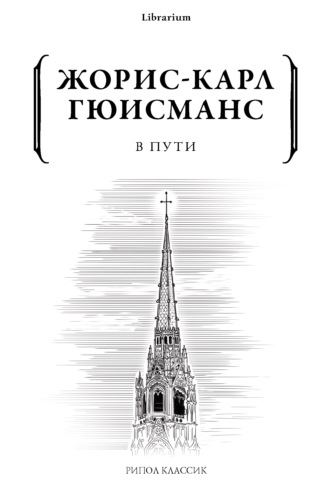
Полная версия
В пути
Прежде чем обвинять небо в нашей скорби, надлежало бы, без сомнения, исследовать добровольные видоизменения, намеренные падения, испытанные человеком, прежде чем погрузился он в мрачный дурман, в котором теперь тоскует. Надлежало бы осудить пороки его предков и собственные его страсти, порождающие большую часть недугов, от которых он страдает. И в заключение следовало бы отречься от цивилизации, создавшей нестерпимые условия нашего существования, но не от Господа, который не сотворил нас способными падать развеянными от пушечных выстрелов во времена войны, а во времена мира изнывать жертвою угнетающих, обкрадывающих, грабящих нас пиратов торговли, разбойников банков.
Непостижим, правда, тот врожденный страх жизни, страх, присущий каждому из нас. Но это тайна, которую не объясняет никакая философия.
Ах, если подумать, что из года в год накапливался во мне страх и отвращение к жизни, то ясно понимаю я, почему прибило меня к единственному порогу, за которым я мог укрыться, – к церкви. Прежде я владел опорой, поддерживавшей меня, когда дули суровые ветры печалей. И я презирал церковь. Я верил в свои романы, работал над своими историческими книгами; я жил искусством и кончил признанием полной несостоятельности его, совершенной неспособности даровать счастье. Тогда я понял, что пессимизм прекрасно утешает людей, не чувствующих потребности истинного утешения. Понял, что учения его могут прельстить человека юного, богатого, довольного собой, но становятся удивительно немощными, отчаянно ложными, когда уходят годы и надвигаются недуги и рушится все!
Я обратился в лечебницу душ – церковь. По крайней мере, вас примут там, позаботятся о вас. Не назовут, как в клинике пессимизма, лишь имя болезни, которая мучает вас, и не повернутся к вам спиной».
Наконец, к религии Дюрталя привело еще искусство. Искусство сильнее даже, чем пресыщение жизнью, явилось тем непреодолимым магнитом, который привел его к Богу.
Вся душа его сотряслась глубоко в тот день, когда из любопытства, чтобы убить время, он забрел в церковь, после стольких лет забвения, и прослушал заупокойные моления вечерни, тяжко падавшие одно за другим, в то время, как певчие, чередуясь, подобно могильщикам, бросали друг за другом мягкие горсти стихов. Он чувствовал, что навсегда пленен услышанными в Сен-Сюльпис дивными песнопениями, исполняемыми при поминовении усопших, но окончательно захватили, еще сильнее поработили его обряды и песни Страстной Седьмицы.
Как любил он посещать храмы в течение этой недели! Они раскрывались, подобные вымершим дворцам, точно опустошенные кладбища Господни. Казались мрачными, с их завешанными ликами, с распятиями, облаченными в фиолетовые платы, умолкшими органами, онемевшими колоколами. Толпа стекалась, сосредоточенная и бесшумная, шествовала по земле к исполинскому кресту, слагавшемуся из главного нефа и обоих боковых трансептов; войдя чрез раны, изображенные вратами, поднималась к алтарю, туда, где как бы возлежала глава Христа, и на коленях жадно лобызала распятие, у подножья ступеней.
И толпа, переливавшаяся в крестообразном сосуде храма, сама превращалась в огромный живой крест, безмолвный и печальный.
В Сен-Сюльпис, где вся семинария в полном составе оплакивала позор человеческого правосудия и приговор смерти, вынесенный Богу, Дюрталь увлекался недосягаемым богослужением горьких дней, мгновений тьмы, внимал безмерной скорби Страстей, так возвышенно, так глубоко воплощаемой медленными песнопениями страстной вечерни, ее сетованиями и псалмами. Но сильнее всего повергало его в трепет воспоминание о Деве, нисходящей в Великий Четверг, когда ниспадает ночь.
Церковь, объятая пред этим горестью и распростертая пред крестом, восставала и испускала рыдания, узревая Богоматерь.
Голосами всего хора теснилась она вокруг Марии, пыталась утешить ее, сливая с ее плачем слезы «Stabat Mater», стеная музыкой страдальческих терзаний, орошая ее горе строфами, источавшими воду и кровь, подобно ране Христа.
Дюрталь выходил утомленный этим долгим бдением, но зато рассыпались колебания его веры. Он не сомневался больше, что благодать излилась на него в Сен-Сюльпис с красноречивым блеском литургии и что призывы обращались к нему в сумрачной печали голосов. И он ощущал чисто сыновнюю признательность к этому храму, в котором провел такие нежные и трогательные часы.
И, однако, он совсем не посещал его в обычное время. Храм казался ему слишком обширным, холодным и даже безобразным! Он предпочитал ему церкви более уютные, меньшие размером, церкви, еще хранящие следы Средневековья!
И в дни блужданий он, выйдя из Лувра, где подолгу застаивался перед картинами первых мастеров, укрывался в древний храм Сен-Северин, приютившийся в одном из бедных уголков Парижа.
Он приносил с собой туда видения картин, которым поклонялся в Лувре, и вновь созерцал их в обстановке, им родственной.
Уносимый в облаках гармонии, плененный светлыми струями хрустального детского голоса, отрывающегося от гулкого рокота органа, он переживал здесь блаженные мгновения.
Он чувствовал там, когда даже не молился, как поднимается в нем жалобная скука, сокровенная тоска. Выпадали дни, когда Сен-Северин восхищал его, лучше других помогал преисполниться неуловимым ощущением радости и сожаления, а иногда наводил его помыслы на содеянные безумства похоти и очищал душу раскаянием и ужасом.
Часто уходил он туда. Особенно любил бывать по воскресеньям утром за поздней обедней.
Он устраивался тогда позади главного алтаря в печальной укромной апсиде, подобно зимнему саду засаженной необычными, немного дикими деревьями. Она походила на беседку из окаменевших древних дерев цветущих, хотя с них спала листва, и словно высокие стволы поднимались четырехугольные или многогранные колонны, прорезанные у основания длинными выемками, в прохождении своем слагавшиеся в овалы, напоминавшие корни ревеня и желобчатые, точно сельдерей.
Не распускалась листва на вершинах стволов, нагие ветви которых изгибались вдоль сводов, соединяясь с ними, примыкая к ним, в местах слияния собирая причудливые букеты поблекших роз, гербовые, ажурно точеные цветы. И стыли уже около четырехсот лет эти неподвижные деревья. Неизменными навсегда согнулись ветви, слегка поблекла белая кора колонн, и увяли цветы. Осыпались геральдические лепестки, а некоторые ключи свода хранили лишь наслоенные друг на друга чаши, раскрытые, подобно гнездам, источенные, словно губки, измятые, как клочки потемневших кружев.
Среди этой таинственной растительности, этих каменных дерев, одно из них, странное и чарующее, порождало безумную мысль, что, быть может, сгустился, затвердел, бледнея и веясь, дым голубого ладана и сложился в дугу этой колонны, которая поднималась спиралью и распускалась в злак, обломавшиеся стебли которого ниспадали с покатости свода.
Уголок этот, куда уходил Дюрталь, тускло освещался стрельчатыми окнами в сетке черных ромбов, в которые вставлены были крошечные стекла, затемненные налетом издавна накапливавшейся пыли и казавшиеся еще мрачнее от церковных панелей, опоясывавших их.
Апсиду эту можно было вообразить себе тяжелым окаменевшим сплетением остовов деревьев, теплицей умерших пальм, наводившей на мысль о чудодейственной птице Феникс, будившей призраки прихотливых веерников; но своими очертаниями полумесяца и мутным светом она вызывала также и видение корабельного носа, который погрузился в волны. В перевитые черными переплетами окна, словно в круглые окна трюма, доносились сдавленные шумы колес на улице, подобные журчанию реки, которая просеивает в мутном потоке своих вод золотистые отблески дня.
По воскресеньям, за поздней обедней апсида оставалась пустой. Все молящиеся наполняли корабль церкви перед главным алтарем или размещались в притворе, посвященном Богоматери. Дюрталь почти всегда бывал один, а если случалось проходить кому через его убежище, то, не в пример верующим других церквей, люди эти не казались ни враждебными, ни тупыми. В этом квартале неимущих храм посещали бедняки: лавочники, сестры милосердия, оборванцы, подростки. Преобладали женщины в лохмотьях, ходившие на цыпочках, опускавшиеся на колени не глядя вокруг, стеснявшиеся себя рядом с убогой роскошью алтарей; робко поднимали они глаза и склоняли голову при приближении служки.
Растроганный немым зрелищем этой боязливой нищеты, Дюрталь слушал литургию, исполняемую хором малочисленным, но тщательно обученным. Лучше, чем в Сен-Сюльпис, где богослужения отличались иной торжественностью и полнотой, исполнял хор Сен-Северина дивное песнопение «Credo»[19]. Он будто бы возносил его к высоте сводов, и, развернув широкие крылья, почти недвижно парила песнь над распростертой паствой, когда медленно и внушительно реял стих «Et homo factus est»[20], роняемый пониженным голосом певчего. Звуки неслись окаменелые и вместе с тем прозрачные, в нерушимости своей подобные членам Символа Веры и столь же дышавшие наитием, как и сам текст, возвещенный Духом Святым на последнем собрании апостолов Христа.
Один из басов в Сен-Северине одиноко возглашал первый стих, а все детские голоса изливали последующие; и размеренно утверждались неизменные истины, звучавшие внушительнее, суровее, значительнее, быть может, даже слегка жалобно, в оторванном мужском голосе и казавшиеся, пожалуй, более робкими, но зато и более приветливыми и радостными в порыве, хотя и сдержанном, юных голосов.
Дюрталь чувствовал себя умиленным в этот миг и мысленно восклицал: «Не могут быть ложны потоки веры, создавшие музыку с подобной силой убежденности! Сверхчеловеческое дыхание чувствуется в проявлениях, далеких от мирской музыки, которая никогда не могла достичь непостижимого величия этой ногой песни!»
Изысканна была в Сен-Северине вся вообще обедня. Глухой и пышный «Kyrie eleison»[21]. Восторгом дышала «Gloria in excelsis»[22], в которой участвовали два органа. Один играл соло, а другой управлял певчими и подкреплял их. Сумрачный, почти угрюмый гимн сочетался с хоровым кликом «Hosanna in excelsis»[23], устремляясь в высь сводов. Слабой, прозрачной мелодией поднимался «Agnus Dei»[24] в созвучиях, молящих и столь смиренных, что они не смели, казалось, восстать.
За исключением «Salutaris», впитавшей в себя, как и в других храмах, частицу контрабанды, Сен-Северин хранил за обычным воскресным служением музыкальную литургию и воспевал ее почти благоговейно хрупкими голосами детей и прочно обработанными мощными басами. Восторженно погружался Дюрталь в пленительную обстановку Средневековья, в этот пустынный мрак и в эти песнопения.
Под конец он чувствовал, что весь потрясен до глубины души и пронизан нервными слезами. В нем поднимались все прегрешения его жизни. Охваченный неопределенными страхами, туманными вопросами, которые душили его, не находя ответа, он проклинал свое позорное существование, клялся раздавить вожделения своей плоти.
Потом, когда кончалась обедня, он бродил по церкви, восторгаясь стремлением ввысь сводов, которые сооружали четыре века, накладывая необычные следы, сказочные отпечатки в узоре выпуклой резьбы, расцветшей под опрокинутою колыбелью сводов. Эти века объединились, чтобы повергнуть к стопам Христа сверхчеловеческое напряжение своего искусства, и до сих пор еще можно было видеть дары каждого из них. XIII век высек низкие, тяжелые колонны, капители которых венчались кувшинчиками, словно каплями воды, широкими листьями, в крючковатых завитках изгибавшимися, точно епископские посохи. XIV век воздвиг рядом промежуточные колонны, по бокам которых пророки, монахи и святые поддерживают своими телами давящую тяжесть арок. XV и XVI века создали апсиду, алтарь, несколько витражей в окнах, расположенных вверху хор; и несмотря на поправки невежд, они сохранили истинно трогательную наивность.
Казалось, что их создавали предки Эпинальских иконописцев, испестрив резкими тонами. Жертвователи и святые, выступавшие на этих прозрачных картинах в каменных рамках, все казались нескладными и задумчивыми, а их облачения, цветов желтого, зелено-бутылочного, иссиня-голубого, красносмородинного, фиолетового, волчьей ягоды или винной гущи, еще резче оттенялись по сравнению с телами, краски которых или погибли, или остались незаполненными в бесцветности стекла. Христос на кресте, светлый и прозрачный, выделялся в одном из окон среди лазурных бликов неба и красно-зеленых крыльев двух ангелов, лики которых были будто иссечены из хрусталя и наполнены светом.
В отличие от витражей других церквей, окна эти поглощали лучи солнца, не преломляя их. Их, несомненно, с намерением лишили способности отражения, чтобы дерзкой игрой искрометных драгоценностей не оскорбить скорбного уныния храма, который высился в смрадном закоулке квартала, населенного оборванцами и нищими.
Дюрталя осаждали мысли: «Бездейственны современные парижские базилики. Глухи к молитвам, разбивающимся о ледяное равнодушие их стен. Разве возможно сосредоточиться в храмах, где ничего не оставили после себя души? Казалось, что Господь навсегда покинул омраченные запустением алтари, что претворяясь в Святых Тайнах, Он тотчас же удаляется, когда таинство совершилось. Казалось, Он отвращается от этих зданий, предназначенных не Ему одному и в своем низменном облике могущих служить целям самым нечестивым. Лишенные святости, они не несут единственных угодных Ему даров – даров искусства, которые даровал он человеку, чтобы лицезреть себя в возносимых ему образах, в малом виде отражающих сотворенное Им, чтобы радоваться цветению злаков, семена которых сам Он заронил в души, заботливо Им отмеченные, истинно избранные вслед за душами святых!»
Совсем иные милосердые храмы Средневековья, церкви влажные и закопченые, полные древних песнопений, вдохновенной живописи и аромата гасимых восковых свечей и благовоний сжигаемого ладана!
Немного осталось в Париже образцов этого минувшего искусства, святынь, камни которых действительно источали веру. И Сен-Северин казался Дюрталю изысканнее и глубже, чем другие. Лишь здесь чувствовал он себя как дома и был убежден, что если суждено ему когда-либо молиться о спасении своем, то не в какой другой, а именно в этой церкви, где одухотворенными казались ему даже своды. Невозможно, думал он, чтобы колонны и стены не пропитались навсегда пылкими молитвами, сокрушенными рыданьями Средневековья. Невозможно, чтоб от тех недосягаемых времен в этом винограднике скорби, где святые собирали некогда гроздья горячих слез не сохранились бы эманации, укрепляющие отвращение к греху, излияния, возбуждающие покаянный плач!
Подобно святой Агнессе, пребывавшей незапятнанной среди поругания, храм этот непорочно стоял среди окружающего срама, и совсем вблизи, в двух шагах отсюда, на улицах, толпа современных негодяев, одурманенная напитками преступлений, водкой и подкрашенным абсентом измышляла злодейства вместе с продажными женщинами.
Церковь стояла в краю, обреченному сатанизму, зябко кутаясь в лохмотья хижин и харчевен. Издалека виднелась над крышами ее хрупкая колокольня, подобная заостренной игле, в которой помещался крошечный колокол. Такой казалась она, по крайней мере, с площади Сен-Андре, покровителя художеств. Символически ощущался призыв, который несли эта колокольня, этот колокол, душам, ожесточенным и изъязвленным пороками, призыв, всегда ими отвергаемый.
И Дюрталь вспоминал, что невежественные архитекторы и бездарные археологи хотели освободить Сен-Северин от лачуг и опоясать его деревьями, заключить в рамку сквера! Точно не пребывал он всегда в сплетении темных улиц! Уничижение его добровольное и стоит в согласии с жалким кварталом, которого он покровитель. В Средние века памятник этот привлекал лишь своей внутренностью и не принадлежал к числу величественных базилик, воздвигнутых на открытых больших площадях.
Он был молельней бедняков, храмом, коленопреклоненным, а не величавым. И высшею бессмысленностью было бы вырвать Сен-Северин из его среды, отнять у него вечные сумерки, всегда окутывающий его мрак, утончающий его красоту смиренной служанки, молящейся за нечестивою оградою лачуг!
«Ах, если б окунуть его в горячую атмосферу улицы Нотр-Дам-де-Виктуар и прибавить к его скудному хору мощную капеллу Сен-Сюльписа. Был бы достигнут идеал!.. – мысленно восклицал Дюрталь. – Но, увы! Нет здесь, на земле, ничего цельного, ничего совершенного!»
Это был единственный храм, который пленял его своей художественной красотой. Собор Парижской Богоматери отвращал Дюрталя своей громадностью и слишком изобиловал туристами: к тому же редко совершалось в нем торжественное служение. Большая часть приделов бездействовали, и молитвы отпускались в количестве, не более положенного. Наконец, детские голоса хора отталкивали своей хрупкостью, а преклонные лета басов придавали им водянистый оттенок. Еще хуже было в Сен-Этьен-дю-Мон. Здание храма отличалось красотой, но хор напоминал вспомогательное отделение зверинца: создавалось впечатление псарни, в которой завывает на разные голоса стая больных собак. Никакой цены не имели также другие храмы на Левом берегу Сены. Из них по возможности изгонялись древние песнопения, и повсюду слабость голосов соединялась с вольными напевами.
Церкви на Правом берегу хранили большее постоянство: религиозность Парижа ограничивается кварталами на этой стороне Сены и исчезает, если перейти мосты.
В общем, подводя итог, он проникался убеждением, что наития и блаженное искусство древнего нефа Сен-Северина и торжественные обряды и песнопения Сен-Сюльпис привели его к христианскому искусству, а оно устремило его к Богу.
Раз ступив на этот путь, он прошел его до конца. Начав с музыки и зодчества, блуждал потом в таинственных областях других искусств, и верования его еще сильнее укрепились долгими стояниями в Лувре, погружением в требники, в творения Рейсбрука, святой Терезы, святой Екатерины Генуэзской и Магдалины де Пацци.
Но слишком свеж был пережитый им переворот воззрений, чтобы могла утихнуть его все еще смятенная душа. Мгновениями она, казалось, стремилась вспять, и он смирял ее, сопротивляясь. Истомлялся в умствованиях над самим собой, приходил к сомнению в искренности своего обращения, говорил себе: «В сущности, к церкви меня влечет только искусство. Я иду туда не молиться, а видеть или слушать, ищу не Господа, а наслаждений. Это не глубоко! Точно в теплой ванне, где мне не холодно, пока я сижу неподвижно, и где я зябну, пошевелившись, так и в церкви, когда я не двигаюсь, утихают мои порывы. Я чуть не пылаю в ее нефе, остываю в преддверии и совершенно леденею за ее порогом. Меня притягивают к ней литературные запросы, колебания нервов, распаленность мыслей, причуды духа, все, что хотите, но не вера».
Но еще больше, чем эта потребность вспомогательных средств к умилению, тревожило его чувственное беспутство, бушевавшее в нем, сочетаясь с благочестивой думой. Подобно обломку, носился он между церковью и любострастием, и они поочередно отдавали его друг другу, насильственно отторгая от берега, к которому он приблизился, и сейчас же отталкивая к противоположному. Он даже спрашивал себя, не жертва ли он, обманутая бессознательным притворством своих низменных страстей, которым нужна животворная утеха ложного благочестия.
Сколько раз совершалось с ним чудо, когда он чуть не в слезах выходил из Сен-Северина. Неведомо почему, безотносительно к мыслям, без постепенных переходов, независимо от ощущений, разгорались его чувства, а он не улавливал даже трепетания зажегшей их искры и сознавал свое бессилие бороться и не мог выждать, пока они потухнут сами собой.
После он проклинал себя, но было уже поздно! И тогда его охватывало противоположное стремление: он жаждал поскорее укрыться куда-нибудь в церковь, омыть там душу, но был так противен себе, что, иногда дойдя до дверей, не решался войти.
Случалось, он, наоборот, возмущался и яростно восклицал: «Наконец, это глупо, я отравил единственное удовольствие, которое мне оставалось – наслаждение плоти. Я наслаждался раньше и не испытывал никакого отвращения; теперь я муками расплачиваюсь за свой несчастный хмель. Еще одну лишнюю горесть вплел я в мою жизнь. Ах, если б вернуться назад!»
И тщетно лгал он перед собой, пытался оправдываться, внушал себе сомнения.
«А если все это неправда? Если нет ничего? Если я ошибаюсь и если правы свободные мыслители?»
Но сейчас же становился жалок себе, отчетливо чувствуя, что владеет несокрушимым запасом истинной веры в глубине души.
«Мои сомнения ничтожны, и презренны оправдания, которые я подыскиваю своему распутству, – думал он, и в нем загоралось пламя восторга. – Несомненна истина догматов церкви, и бессильно отрицание ее божественного величия.
Не говоря уже о надчеловеческом искусстве церкви и ее мистике, разве не удивительна немощная слабость побежденных ересей? От сотворения мира все они опираются на плоть. По правилам человеческой логики, казалось бы, следовало ожидать их торжества, раз они позволяли мужчине и женщине удовлетворение страстей, не возводя этого в грех, или даже посвящая себя, как, например, гностики, плотской похоти и в ней воплощая Богопочитание.
И что стало с ними? Все увяли. А церковь, неумолимая в вопросе целомудрия, осталась цела и невредима. Она предписывает телу умолкнуть, а душе страдать и, как это не невероятно, человечество послушно ей и, словно мусор, отметает соблазны утехи, которыми его прельщают.
Разве не убедительна, наконец, живучесть церкви, уцелевшей, не взирая на неизмеримую тупость ее слуг? Она перенесла темное скудоумие своего духовенства, не дрогнула даже от бездарности своих защитников! В ней истинная сила!
Нет, чем больше я думаю, – восклицал он, – тем она кажется мне более изумительной, единственной в своем роде, тем глубже убеждаюсь я, что она одна владеет истиной, и что вне ее лишь заблуждения духа, обманы, бесчестье! Церковь, небесная целительница душ, божественный питомник. Она лелеет их, растит, врачует и, когда настает час скорби, возвещает, что истинная жизнь начинается не с рождения, а в миг смерти. Церковь непогрешима, надмирна, безмерна…
Да, но значит, надо следовать ее предписаниям, участвовать в установленных ею таинствах!»
И Дюрталь, понурив голову, обрывал свои сомнения.
III
Подобно всем неверующим, он так рассуждал до своего обращения: «Если б я верил, что вечная жизнь не обман, я ни на миг не поколебался бы опрокинуть свои привычки, следовал бы по мере возможности церковному уставу и без сомнения хранил бы целомудрие». И он удивлялся знакомым ему людям, которые, находясь в таком же положении, вели, однако, жизнь столь же грешную, как он. С давних пор привык он измышлять для себя снисходительные оправдания и был неумолим, однако, когда речь заходила о верующих.
Теперь он понял несправедливость своих суждений, осознал пропасть, лежащую между верой и делом, и трудность перейти от одного к другому.
Дюрталь не любил размышлять над этим вопросом, который, однако, преследовал его, не оставляя в покое, и он невольно сознавался, что доводы его ничтожны и презренно его сопротивление.
У него доставало искренности сказать себе: «Я не ребенок больше. Если я верю, то не должен беспрестанно подогревать мою веру проявлениями ложного усердия. Я не хочу компромиссов и перемирий, чередования благочестия и распутства. Нет, все или ничего! Или решиться на переворот до основания, или оставаться неизменным!»
И тотчас отступал, устрашенный, пытался бежать от решения, к которому склонялся, изощрялся в оправданиях, размышлял целыми часами, выдумывал самые жалкие мотивы, чтобы оставаться таким, как есть, и не двигаться.
«Что делать? Я чувствую, как все уверенней укореняются во мне эти веления, и, ослушаясь их, я подготовлю себе жизнь, полную тягости и угрызений. Нельзя вечно стоять на пороге, я знаю; что должен проникнуть в святилище и остаться там. Но решиться на это… Ах нет, тогда пришлось бы принуждать себя ко множеству обязанностей, примириться с последовательными лишениями, бывать по воскресеньям за обедней, поститься по пятницам, жить святошей и походить на тупицу!»
Подкрепляя свое возмущение, он вдруг вспоминал уродливые физиономии церковных завсегдатаев. На пару людей, имеющих вид разумный и достойный, неисчислимое множество несомненных ханжей и плутов!
Они производят двусмысленное впечатление, обладают елейным голосом, низменным взором, непременно носят очки, одеваются, точно пономари, в длинное черное платье. Почти все напоказ перебирают четки и, более пронырливые и лукавые, чем нечестивцы, они угнетают ближнего своего, предавая с Богом.
Молящиеся женщины раздражают еще больше. Наводнив церковь, они разгуливают по ней, как дома, мешают всем и каждому, двигают стулья, толкаются, даже не думая извиниться. Потом торжественно опускаются на колени, принимают вид скорбных ангелов, бормочут неизменное «Отче наш» и выходят из церкви, став еще язвительнее и высокомернее.
«Вот уж радость, – восклицал он, – смешаться с шайкой этих благочестивых дураков!»






