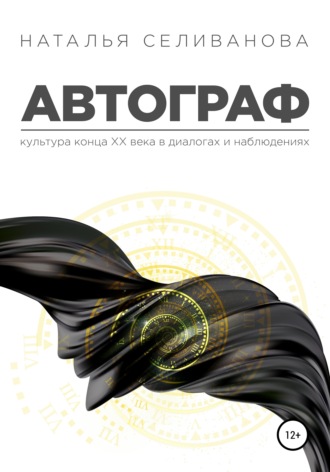
Полная версия
Автограф. Культура ХХ века в диалогах и наблюдениях
– Горький прекрасно понимал разницу между вымыслом и ложью. На самом деле, все люди – ханыги, работяги, военные, интеллигенция – пытаются «держать» жизнь и размышлять о ней. Они могут рассказать об этом так прелестно, точно и ярко, что для писателя становится очевидной гениальность, которая заложена и в человеческой природе, и в окружающем мире.
– Вы – писатель, как принято говорить, традиционный. Почему вы не попробуете себя в модном ныне постмодернизме?
– В то же время другие критики, видимо, желая польстить, отмечают в моей прозе элементы постмодернизма и сюрреализма. Точная копия ситуации – фотография в литературе – меня совсем не привлекает. Только само качество прозы – воздушное, солнечное, радостное мироощущение – является главным итогом работы. Известно, что под модным течением легко скрывается бездарность. Написав справа налево, некоторые литераторы считают себя великими. Думаю, что обязательность постмодернизма в чем-то даже хуже объятий соцреализма.
– Скажите, кто из современных писателей вам близок?
– Александр Скоков и Николай Шадрунов – литераторы, знающие «благовоние» жизни не понаслышке. Они упали на ее дно и не испугались. Обогатились потрясающим, сочным материалом. Например, Петрик, герой рассказа Шадрунова, алкаш и супермен, лучше любого каратиста способен пробить все стены ради… удачной шутки. Вдруг он умирает. Его закопали, оплакали, выпили за помин души. Через два дня, как ни в чем не бывало, Петрик входит в пивную: «Что же мне не наливаете?». Предварительно корешам наказал выкопать его, а ведь они могли уйти в запой или попросту забыть. Это не та грязь жизни, которую сочиняет в уютной квартире Владимир Сорокин. Увидеть и передать на бумаге трагикомизм существования – цель и моего творчества.
– Гоголь, Чехов, Бунин умели достичь этой цели. А кто из прозаиков XX века «стимулировал» ваше творчество?
– Аромат свободы, «вкусную», красивую фразу я находил в рассказах Олеши и Бабеля. Причем их «второе пришествие», в 60-е, стало праздником для многих. Кроме того, Сэлинджера и Апдайка мы любили, наверное, сильнее, чем сами американцы. Когда я прочитал «Приглашение на казнь» Набокова и увидел дату сочинения – 1939 – год моего рождения, я понял, как мне далеко до настоящего реализма. Правда, в других его вещах я видел автора – холодного, высокомерного лорда, стремящегося к самоутверждению через унижение героев. Все-таки душа писателя может быть буйной, ироничной, но она должна быть непременно теплой. Это и определяет по-настоящему качество его работы.
– Как вы полагаете, есть ли различия между петербургской и московской литературными школами?
– Есть. Петербуржец может дойти до Москвы только пешком. И, признаться, такой отбор закаляет: или он становится хорошим писателем, или пропадает. С другой стороны, в Москве бриллиант огранят точнее и продадут дороже. Скажем, столичные журналы привлекают грантами. И москвичи стараются писать в соответствии с велением времени. Они торопятся, а нам спешить некуда. Я писал 35 страниц целый год. Лишь недавно отнес повесть «Ванька-встанька» в «Знамя». Невольно соперничая, я думаю, что сегодня петербургская школа берет верх. Посмотрите, какой серьезный интерес снова вызвал Довлатов.
– В повести «Будни гарема», недавно изданной в «Вагриусе», вы отталкивались от реальных персонажей?
– Кажется, Шкловский заметил, что «никакие конкретные люди в литературу не годятся». Но их отдельные черты, свои наблюдения я считал уместным использовать. Моего героя, сценариста, приглашает «кинозвезда» и устраивает ему на теплоходе, плывущем по Балтийскому морю, роскошную жизнь. Тут же на ходу снимается кино. Она заказывает герою диалоги, от которых у него волосы встают дыбом. Внезапно кинодива ссорится с исполнителем главной роли. Не теряя времени, она находит ему замену – почему-то шофера. Там столько безумия, абсурда, нелепостей, что сценарист сбегает в Германию и оказывается в объятиях немецкой профессорши. С ней чудес не меньше. А вот третью героиню, которую и полюбил мой герой, я выдумал.
– В Некрасовской библиотеке, где я часто бываю, видела ваши книги, явно зачитанные. Похоже, имидж читаемого писателя в вашем случае – не миф.
– В жизни случаются удивительные совпадения. Так, в Нью-Йорке на своем вечере среди прочей публики я увидел необыкновенно красивую парочку, прямо-таки из рекламного ролика. И, честно говоря, все время недоумевал: им-то зачем литература? Позже они подошли ко мне и рассказали, что, уезжая из Харькова, всем остальным предпочли мои книги. И показали их, действительно зачитанные. Возможно, это редкие, но страстные читатели.
ГАЗЕТА УТРО РОССIИ 28.04.1994А я всегда стоял в тени…
В поэзии Олег Чухонцев дебютировал в 1958-м. Однако его первая книга «Из трех тетрадей», вышедшая лишь восемнадцать лет спустя, стоила ему немалой крови. В прошлом году за сборник стихотворений «Ветром и пеплом» ему была присуждена Государственная премия России. Литературная критика всегда рассматривала О. Чухонцева «вне рядов и обойм». Поэтому, какое место он занимает в современной поэзии, так до конца и не уяснили. Одно несомненно: он ориентируется на классическую традицию.
– Как-то в разговоре об Иосифе Бродском Ахматова восхищенно заметила: «Какую биографию они (большевики. – Н. С.) делают рыжему». Вам, Олег Григорьевич, тоже пришлось от них натерпеться. Значит, истина «поэзия – это судьба» не тускнеет от повторений?
– Литературная политика советской эпохи помешала мне выработать в себе потребность книги. Самое драгоценное время для поэта до 40 лет – у меня, по сути, было украдено. Я потратил много сил на переводы, выбирать материал для которых часто не приходилось. С 1960-го по 1976-й моя первая рукопись провалялась в «Советском писателе». Рецензенты все советовали ее доработать. Как будто стихи можно высидеть.
– Тем временем вы оказались в журнале «Юность».
– Меня пригласили возглавить отдел поэзии при Борисе Полевом в 1962 году. Впрочем, радость была недолгой. Хотя я редко публиковался, мои стихи не остались незамеченными. Фельетон «Стиляги в поэзии», напечатанный в «Советской России», и выступление первого секретаря ЦК ВЛКСМ товарища Павлова, а поводом для последнего явились стихи о Курбском, стоили мне еще нескольких лет жизни. Вообще, мне предъявили масштабное обвинение: «В то время, когда американский империализм все наглеет, когда льется кровь невинных жертв войны во Вьетнаме, гражданин Чухонцев призывает к измене». Я, слава Богу, уцелел. Всего-навсего расторгли договор в «Молодой гвардии». Я подал на них в суд. Издательство отделалось выплатой гонорара. Но книга – она называлась «Имя» – так и не вышла. Вы понимаете, что такие удары судьбы терпимости не прибавляют. Короче говоря, к 75-му году я твердо решил уехать. Написал довольно резкое письмо в Союз писателей, где заметил, что в дом, в котором тебя не ждут и не любят, входишь с тяжелым сердцем и что я еще не настолько немощен, чтобы перестать полноценно работать. К моему удивлению, решением Секретариата книжку в «Советском писателе» издали в пожарном порядке.
– Но многие находили выход в ином. Наш литературный андеграунд создавали те, кто и надеяться не мог на книгу.
– Никогда не хотел быть поэтом для избранных. Как ни странно, мне дорого старомодное понятие «читатель».
С другой стороны, поэты, рожденные оттепелью, меня, также не привлекали. Наше ремесло, на мой взгляд, не нуждается в политических эмоциях. Мне близка знаменитая формула Гете: «А я всегда стоял в тени. Вдали от споров, школ, и направлений». Понимаете, в искусстве всегда важен открытый финал. Иными словами, «всякий раз не воплотиться». И что я буду делать завтра – мне неведомо. Конечно, в поисках свежести необходим эксперимент внутри формы, но моя работа ничего общего с авангардом не имеет.
– Вы возглавляете отдел поэзии в «Новом мире». Как вы полагаете, интерес к поэзии еще существует?
– Я думаю, что вопреки стонам о гибели культуры она развивается. Поэтическая карта сегодня – это прежде всего новые люди. Блестяще образованные, владеющие языками, прекрасно ориентирующиеся в мировой культуре. Они знают, что хотят сказать в литературе. Например, тридцатилетие Гадаев и Кукин.
– А ведь есть люди, которые причисляют себя к постмодернистам, утверждающим, что в литературе уже нет пространства для развития. В ней возможны только пародии.
– Они сами стали пародией. Постмодернисты думали, что на законах арифметики можно построить нечто. Ничего подобного. Новое в литературе – это сплав языка, личного опыта художника и того, что он понял в жизни. Причем это новое именно рождается. Его нельзя искусственно привнести. Например, когда стало возможным использование в текстах ненормативной лексики, процесса освежения культуры не произошло. Хотя есть некоторые исключения – проза Миллера и Юза Алешковского. Но в их творчестве я вижу повторы. В сущности, в искусстве все важно – «однажды». «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева – блестящее открытие. А проживи он дольше, я не знаю, что бы и как он написал.
– В литературных кругах сегодня существует мнение, что необходимо отделить этику от эстетики. Другими словами, в творчестве художник имеет право на все.
– Не нужно обольщаться. Прочтите внимательно Ветхий Завет – люди искали правду, в том числе и через этические формы. Они стремились и стремятся к гармонии. Порой я сам говорю, что предпочтительнее поиск новой эстетики. Но этические нормы нас ко многому обязывают. И главная – еще ни один человек не ушел от смерти. Мы, представители христианской культуры, ответственны за свою жизнь и за то, что будет после нее.
ГАЗЕТА УТРО РОССIИ 26.05.1994Александр Ткаченко: Принцип свободы для меня абсолютен
Поэт Александр Ткаченко в юности семь сезонов подряд играл за футбольные команды мастеров Москвы и Ленинграда. Закончил выступать из-за травмы. Автор семи поэтических сборников, первый из которых – «По первому свету» – вышел в 1972-м. Последние два года возглавляет журнал «Новая юность», является членом комиссии «Писатели в заключении» Русского ПЕН-Центра. В день нашей встречи писателю Зуфару Гарееву до судебного разбирательства заменили тюремное заключение на подписку о невыезде.
– Вы активно участвовали в освобождении Зуфара Гареева. Это вполне понятно. Но вот по поводу самой газеты «Еще». Как вы относитесь к тому, что издания такой направленности свободно у нас продаются?
– Принцип свободы печати для меня, для здравомыслящих людей абсолютен. И его надо отстаивать, несмотря на то что какие-то явления в современном издательском деле лично мне, к примеру, неприятны. Газета «Еще» выходит на законных основаниях. Она разрешена Минпечати России, никаких запретов с его стороны никогда не было. Сажать в тюрьму издателя и писателя за «порнографию» – это варварство, с которым в цивилизованном мире давно покончено.
– По нашей Конституции порнография в искусстве и в СМИ запрещена. Но каковы критерии, отличающие эротику от порнографии?
– В том-то и дело, что их нет. В середине 80-х на Западе считалось порнографией изображение половых органов. Теперь говорят об изображении полового акта или обнаженной натуры, оскорбляющей человеческое достоинство. Кстати, на Западе эти категории, способные вызвать споры, внесены в Гражданский кодекс, а не в Уголовный, как в России. Кому не нравится газета или телепередача, тот вправе обратиться в суд. Суд, если сочтет нужным, налагает штраф, в конце концов может закрыть издание и его счет в банке, но не вправе сажать в тюрьму издателей и журналистов. К примеру, при МВД России уже создана полиция нравов. Как она будет работать? Там, где власти не в состоянии справиться с более крупными преступлениями, они пытаются набрать очки в малозначимых вещах. Но, возможно, аресты Костина и Гареева укладываются в общую картину ограничения прав и свобод граждан.
– Почему выбор пал на газету «Еще», а не на «Мистер X», к примеру, или что-нибудь в том же духе?
– Это загадка. Мне кажется, газета «Еще» – это сгусток интеллекта и творчества, обогащенный эстетически новым вызовом окружающему миру. Есть там элементы эротики, которые кто-то, по-видимому, и принял за порнографию. Сегодня создаются новые формы отечественной журналистики и разнообразные приемы, как то: мистификации, интеллектуальная игра, оригинальная, а порой шоковая подача фотоматериала – наверное, могут вызывать неадекватные реакции у некоторых потребителей. Осмелюсь предположить, что в этой драме сыграла свою роль и подсознательная ненависть к интеллигентской среде. Вот, скажем, первый номер журнала «Махаон», который я делал с прекрасным художником Виктором Скрылевым. Может быть, и меня нужно брать «под микитки»? 200 000 экземпляров, отпечатанные в Финляндии, разошлись очень быстро.
– Язык не поворачивается назвать такое шикарное эстетское издание порнографическим. По-моему, вы можете считать себя пионером культурной эротики в России.
– Журнал, в котором используются работы лучших отечественных и зарубежных художников, фотографов, дизайнеров, фотомоделей, требует огромных денег, которых, увы, у меня нет. Но «Новую юность» мы все-таки умудряемся выпускать.
– Почему вы выбрали название «Новая юность»?
– Это не название, это судьба. Со мной из прежней «Юности» ушли несколько человек, которые убедили меня не искать новое название. Марка «Юности» читателям знакома. Да и скандал привлек дополнительное внимание. Короче говоря, я считаю «НЮ» осколком, проросшим в будущее. Нам хотелось вызвать интерес к молодой литературе, «поднять» новых ребят. Вы же знаете, как было раньше. Приходил известный поэт и требовал, чтобы его стихи ставили в 11-й номер. Но никто из них не предложил путь обновления журнала. Никто из них не пришел с финансовой идеей. В итоге и они покинули журнал вслед за Дементьевым, его многолетним главным редактором. Чем, на мой взгляд, нанесли огромный вред. Ведь славу журналу в конечном счете создают писатели, а не мы, издатели.
– Вы могли бы сформулировать художественную концепцию «НЮ»?
– «НЮ» – это психологический слепок, отпечаток, если угодно, нашего времени. В слове, фотографии, дизайне. Судя по четырем номерам, мне кажется, нам многое удается. В журнале несколько тетрадок. «TERRA поэзия» – здесь представляются поэты, как наши, так и зарубежные, ранее читающей публике неизвестные. «Новые территории искусства» – это авангард в живописи и в графике. Так, в 5-м номере мы познакомим читателей с замечательным художником-карикатуристом Леонидом Тишковым.
Мы прекрасно понимаем, как трудно «иногородним» пробиться в столичную печать. «Пошла писать губерния» – тетрадка, в которой мы печатаем трех авторов-не москвичей – поэта, прозаика, эссеиста. Кроме того, «И.Т.Д.» включает в себя избранные тексты 90-х. Здесь мы публикуем молодых авторов, но уже заявивших о себе с обязательной оценкой критика.
По существу, все что могло случиться в русской литературе XX столетия, уже произошло.
Полагаю, что сказать нечто новое в отечественной словесности смогут те, кому сегодня 10–15 лет. Образно говоря, литература подустала.
– Сейчас нередко приходится слышать, что в литературу вошли хорошо образованные люди. Но их творчество не отражает личный опыт самого автора.
– Это верно. Читая рукопись, иногда трудно понять возраст человека, его занятия в жизни, что он вообще хочет сказать. То есть текст хранит огромный пласт культуры, и это действительно новый признак современного искусства, но личность самого писателя не чувствуется. Мы же по российской традиции в искусстве ценим личностное начало. Я думаю, что крупной фигурой в литературе станет тот, кто, освоив массу знаний, забудет о них, зато протащит свое «я» на каком-то другом уровне. В США, наоборот, есть школы, в которых поэта в его же стихах не должно быть вообще. Он абсолютно растворен в поэтическом потоке – такова задача. Почему? Потому что, по мнению создателей, личностное «я» разрушает гармонию мира. Когда-то Матисс точно сказал: «Хочешь стать живописцем, вырви себе язык». То же самое относится, как ни странно, к поэзии и к прозе. Понимаете, вся твоя натура, страсть, эмоции, любовь к миру или, наоборот, ненависть к нему должны быть выражены в тексте. Мне часто не хватает темперамента, живой жизни, крови горячей в новом поколении. Притом что все вроде бы грамотно и даже имеет некую художественную ценность.
– Кто финансирует «Новую юность»?
– Увы… Нам помогает федеральная программа Министерства печати России, но эти средства идут на покрытие бумаги и типографских услуг. Зарплату сотрудникам платить не можем. Поэтому я благодарен коллегам за их в общем бескорыстную работу и моральную поддержку.
ГАЗЕТА УТРО РОССIИ 02.06.1994Вячеслав Пьецух: Любовь – не тема для писателя
Редакция любого литературного журнала занята не столько формированием портфеля, сколько поиском средств на его существование. «За полтора года, которые я имею честь возглавлять «Дружбу народов», преимущественно этим и занимаюсь», – начал наш разговор писатель Вячеслав Пьецух.
– Слава, а как вы оказались в кресле главного редактора?
– Представьте себе, выбрал коллектив.
– А до этого «рокового» шага служить приходилось?
– В течение 10 лет я был обыкновенным учителем истории, не помышлявшим о литературной карьере. Серьезно занялся писательством уже ближе к 30 годам. Хотя еще в первом классе на ученической тетрадке вывел слово «книжка» и, видимо, излил душу. В конце 70-х в «Сельской молодежи» заведовал литературной консультацией. Словом, читал рукописи графоманов.
– Ваша первая публикация – рассказ «Частные хроники» в альманахе «Истоки», написанный в хорошо знакомой по книгам «Алфавит», «Веселые времена», «Я и прочее», «Новая московская философия» иронической манере. Понимаю, что вы исследуете русскую натуру с доброй улыбкой. Но чем объясняется раз и навсегда выбранный насмешливый тон повествования?
– Признаться, никогда не вставал на гордо своей песне. Это как в случае с походкой. Бог знает, откуда она берется. Русский характер – тема в самом деле богатейшая и неисчерпаемая. В отличие от Достоевского, устами Ивана Карамазова сказавшего: «Настолько широк русский человек, что я бы его сузил», я бы не стал этого делать никогда. Ведь русская натура вмещает в себя все качества, которые только возможны в рамках человеческого существования. Отсюда – бесконечные возможности для писателя.
Известны два взгляда на Россию. Условно говоря, патриотический и трезвый. И то, что музыку в нашей стране заказывали патриоты, меня нередко раздражает. Я стремлюсь показать какое-то явление без впадания в пафос, в более полном его объеме. Однако ощущаешь себя словно меж двух огней – сознавая, что, с одной стороны, нет более бедной и несчастной страны, чем Россия, и, с другой – нет более оголтелого, беспардонного, пьяного и безмозглого человека, чем русский. Эти крайности, вступая в реакцию друг с другом, порождают громокипящий куб, который в результате испаряет тот самый, ернический тон.
– Кстати, о пьянстве. Как вы думаете, почему борьбе с «зеленым змием» успех не грозит?
– Увы, безделье и бессмысленная тягомотина под названием «жизнь» – вот, по-моему, главные источники вечной тяги к алкоголю. Нормально трудиться в России не выходит, так как на одного трудящегося приходится минимум пятеро, которые мешают ему работать. Это константа, не зависящая от формы власти. Кто бы ни управлял Россией, хоть американцы, которыми стращали нас коммунисты (не приведи Господи, конечно), через два месяца все они сопьются, техника у них перестанет работать, а пушки – стрелять.
Итоги выборов 12 декабря еще раз убедили цивилизованный мир в непредсказуемости русских. Теперь о приходе к власти фашистов говорят, как о вполне возможной реальности.
– Вы согласны с выражением «фашизм – это крайняя форма демократии»?
– Фашизм, как правило, апогей народовластия. Сами люди выбирают быдло, которое обещает им работу, хлеб, пиво, женщин, всем сумасшедшим – по сумасшедшему дому, смутьянов – в концлагеря и т. д. И, главное, победитель приводит с собой публику, равную себе. Необразованную, лицемерно провозглашающую глубоко общинные добродетели, например, верность идее, строгость в жизни и уважение к порядку, способность к самопожертвованию ради очередной догмы. Задача культурной элиты любого общества – не дать «добродетелям» развиться и вылиться в способ бытия по принципу племенного устройства. Такой финт истории в конце XX века, после всех ужасов второй мировой войны, – конец для России.
– Какой вам видится судьба России на перекрестке Запада и Востока? Сможет ли она, как полагает Василий Аксенов, стать частью христианской цивилизации Запада?
– Интерес всякого культурного человека на Западе к России вызван в первую очередь ее уникальностью. Как говорится, что русскому хорошо – для немца смерть. Примеров истинного трагикомизма нашей жизни немало. На выходные мы с женой уезжаем в Тверскую губернию. Справа и слева от дороги наблюдаем нескончаемую помойку. Я имею в виду не только неубранный мусор, но и деревеньки, похожие на заброшенные кладбища. Вдоль этой грязи и запустения мчится прогнившая и старенькая машина, а в ней два русских человека ведут разговор о вечном и учат Европу уму-разуму.
– Вы как-то говорили, что для вас абсолютны две ценности: русский интеллигент и русская женщина. Каким вам видится состояние «прослойки» в наше время? Судя по писателям, утратившим социальный статус, оно печально.
– Стилистика бытия русского интеллигента – это самое прекрасное, что существует в диапазоне всех способов жизни. Ни экономические, ни политические пертурбации не властны изменить образ жизни интеллигенции. В то же время я не наблюдаю сильного падения интереса к литературе. Как читали четыре процента нашего населения книжки, так и читают. В 60-е и 70-е годы любителей словесности, наверное, было побольше, но, уверяю вас, ненамного.
– Не видите ли вы противоречия между ценностями, которые исповедует интеллигенция и которые стремится передать детям, и современной жизнью, сбросившей эти ценности «с корабля истории»?
– Мой сын не принял мои ценности. Последнюю книжку, которую он прочитал, по-моему, был аттестат зрелости. И с тех пор в печатные тексты не заглядывал. Надеюсь, конечно, что не зарежет кого-то в темном углу. Он – фельдшер, а вот на 26-м году жизни решил заняться бизнесом. Считаю такой ход вполне нормальным. У Салтыкова-Щедрина, например, сына из Царскосельского лицея за воровство выгнали. Сыновья Толстого не стали сколько-нибудь значительными людьми. Короче говоря, в жизни часто происходит отрицание предшествующей положительной величины.
– А русская женщина способна вызвать иронию писателя?
– Нет. В мою стилистику она не вписывается. Дело в том, что женщина требует другого взгляда, ноты, близкой к пиетету. По отношению к дамам я – чистый романтик, причем платонический, поскольку о них не пишу вообще.
– Неужели никогда сердце не екнуло, а рука не запечатлела на бумаге нечто любовное? Скажем, Хемингуэй, переживая бурный роман с женщиной, испытывал вдохновение.
– Он был легкомысленным человеком.
– Другими словами, когда мужчина пишет о любви к женщине, по-вашему, это ерунда?
– С моей точки зрения, любовь – не тема для писателя.
– Вот как! А Бальзак?
– Отечественная словесность, в отличие от западноевропейской, содержит иной алгоритм. Русская литература – всегда исследование в эстетическом значении этого слова. На Западе любовные романы за редким исключением представляют собой зеркальное отражение с некоторой долей изящества. Образно говоря, иностранцу важно описать лошадь как она есть. Русскому писателю – ее «разрезать». Да, противно, многое кажется неприятным. Но это очень «наше».
– Как вы полагаете, есть ли проблема, которая неминуемо усложняет жизнь любой женщине?
– Женщины унижают себя, возводя свое положение в тему. Я не оригинален, говоря, что мужская доля – доля человека. Но я представляю женщину в большей степени человеком, чем мужчину. Нет никакой особенной «женской» темы ни в жизни, ни в искусстве. Уверен, это надуманная проблема. Недаром Жорж Санд взяла себе мужской псевдоним. Она таким образом стремилась подчеркнуть общечеловечностъ своего предназначения.


