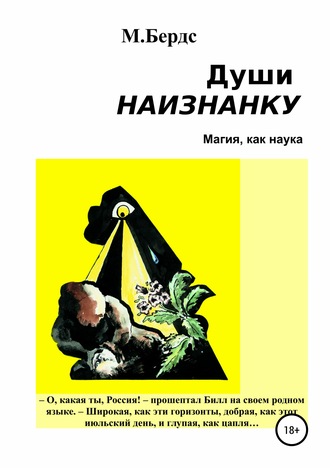
Полная версия
Души наизнанку. Сборник рассказов
Я еще раз все перечитал, и передо мной возникло несколько совершенно разных историй. Пожалуй, кое в чем он и прав, хотя и нельзя так безапелляционно вводить в ранг закона несколько частных случаев. Но, так или иначе, он прав в том, что я не должен молчать. Я не буду описывать многочисленные сцены поедания человека человеком (пусть этим занимается «Криминальное чтиво»). Нет, я хочу написать о нескольких неприятных эпизодах, с которых, как я думаю, все началось. Это подлинные истории болезни тех моих знакомых каннибалов, с которыми я был особенно близок и особенно одинок.
Заплатка
(Из анамнеза больного Д., 40 лет, шизофрения)
… Маленький бледный мальчик грелся у печки и наблюдал, как бабушка выгребает золу кочергой. Бабушкин подол был высоко поднят, и из под него торчали розовые линялые рейтузы с коричневой заплаткой на интересном месте. Чуть правее от бабушки кот Епифан доедал свежую мышку. Надо отметить, что Епифан это делал регулярно, в отличие от бабушки, которая рейтузы одевала не всегда…
– Бабушка, а почему ты сегодня в штанишках? – спросил любознательный мальчик.
– Это чтоб тебя лучше видеть, – пошутила бабушка.
– А у тебя разве есть на попе глазки?
– Есть, внучек, есть, мне их туда дедушка натянул.
«Надо как-нибудь посмотреть, когда бабушка снова не оденет штанишки», – подумал малыш.
В сенях послышался кашель и громкий стук. Это дедушка вернулся с работы и стряхивал с валенок снег.
– Дедушка! – кинулся к нему внучек. – А как ты бабушке на попку глазки натянул?
– Язычком, милай, язычком! – ответил не менее шутливый, чем бабушка, дедушка.
Внучек не совсем понял и решил это отложить на «потом». Да и дальше спрашивать неудобно. Он сел спиной к меловой печной стенке, и она, теплая, как мама, стала ласкать ему позвоночник. Кот Епифан не доел мышку и свернулся клубочком на табуретке.
– Это он тебе оставил, – широко улыбнулась круглолицая бабушка, кивнув на окровавленный трупик. – Ф-фу, жаром вся залилась, аж подмышкой запахло!
«Мышка – подмышка, кроватка – заплатка…» – возникли в голове мальчика первые стихи в то время, как его бабушка снимала рейтузы.
– Жарко, милок, вот и сымаю, – снова улыбнулась она и положила на кровать.
Дедушка с бабушкой стали накрывать на стол. А мальчик продолжал смотреть то на останки мыши, то на заплатку вывернутых наизнанку бабушкиных штанов. Раздавалась металлическая музыка ложек и ножей, и запахло хрустящим хлебом. В желудке заиграл тоненький голосок. Стало уютно, приятно и по-домашнему хорошо.
Прошли годы. Мальчик вырос, удачно женился, закончил университет. Все складывалось наилучшим образом в пример многим, за исключением маленькой странности выросшего мальчика, которого все теперь называли В.И.: он был в чем-то непроницаем. Нет, он мог говорить обо всем на свете, за исключением одного: он никогда никому не рассказывал свои чувства. Даже на вопрос: «Нравится ли тебе сегодняшний борщ?» он отвечал: «Хороший». Он и себе о чувствах не говорил. Но это – до поры до времени: пока жива была бабушка.
… Был такой же зимний холод и снег, и также топилась в бабушкином деревенском домике побеленная печь. Снова кот, только не Епифан, а просто Васька ловил и ел мышей. Не было только дедушки (и уже давно), и вот теперь уже не было бабушки. Вернее, она была. Она лежала, высохшая и неподвижная, со скрещенными руками, на большой дубовой доске, а на полу рядом стоял пустой черный гроб, и два незнакомца рассуждали, с какого бока им заходить.
– Раз-два, взяли! – воскликнули они нестройным хором, и тело бабушки со стуком улеглось на положенное место.
Ни один мускул не дрогнул на лице В.И. – он всегда отличался олимпийским спокойствием и невозмутимостью.
– В.И., – тронула за рукав соседка Лукерья. – Ты никак здесь один останешься? Ай у нас перночуешь?
– Да что я Вас, Лукерья Степановна, стеснять буду. Здесь что ли места мало.
– А не погребуешь? И мертвяков не боишься?
– Живых бояться надо, Лукерья Степановна, живых. Идите спать. Как-нибудь справлюсь, если что – позову.
Ветер свистел до полуночи, пока не порвал старые провода. Свет в хате погас. В.И. отложил книгу и лег, не раздеваясь.
Буря почему-то успокоилась, из-за туч выскочила луна прямо в бабушкино окошко и заглянула внутрь.
– К морозу, – сказал бабушкин голос.
– Померещилось, – ответил В.И. и повернулся на другой бок.
– Покойники заходят со спины. Повернись, внучек, к стеночке.
В.И. не послушался. Ему показалось, что веки стали прозрачными, и он видит все, не открывая их. С присущим ему любопытством он стал наблюдать.
Сначала все было обычно, только привкус какой-то бесцветности сопровождал внимательный взгляд. Комната была скучна и белёса от холодного света луны. Но какое-то движение приковало его интерес, и хоть привкус оставался на прежнем уровне, кровь в жилах заиграла, как у охотника, выслеживающего дичь.
Движение происходило в гробу. Сквозь веки В.И. видел (вернее, знал), что бледная фигура медленно принимает сидячее положение, потирает коленки и прицеливается, как бы удобнее встать. Раскачавшись, она прыгает на пол, издавая тяжелый стон и стук, похожий на тот, когда ее бросали в гроб. Еще раз потирает коленки, а потом, прихрамывая, ковыляет к В.И. Вот она, совсем рядом, улыбается широкой улыбкой на круглом лице. На руках она держит Епифана, а Епифан держит в зубах полуживую мышь и рычит. Мышь выскальзывает, Епифан вырывается из бабушкиных рук.
– Беги-беги, ты голодный, не кормленный, – говорит бабушка, отряхивая от кошачьей шерсти подол, и, задирая его, поворачивается и показывает свой зад. Коричневая заплата, как бритва, режет глаза.
… В.И., как чертик на пружинке, резко вскочил на ноги. Ему показалось, что вспышка света озарила весь дом. Пульс с неистовой силой забился в висках и заклокотал в горле. Огромное непонятное чувство овладело вмиг всей его сущностью. Он понял, что бабушка (нет, она, конечно, и не думала подниматься в гробу) теперь будет сопровождать его всегда. Он теперь не один. Он понял, что счастлив. Он оглядел убогий покосившийся домик и проникся новым необычным чувством красоты. Он любовался тем, что не вызывало любования. Его зрение наслаждалось бедностью красок и утомительной белесой пустотой, плоскостью вместо трехмерности, рождением какого-то «ничего» там, где раньше были цветы и конфеты.
– Вот, внучик, нам и пора. Пошли, милок, пошли. Я тебе расскажу сказку, а потом ляжешь спать. Ты же послушный мальчик и будешь слушаться свою любимую бабушку, – голос ее, такой родной и знакомый, еще никогда не был так близко. Он звучал у В.И. в голове.
Последний самолет
(Больная И., 35 лет, шизофрения)
Юля летела на самолете домой. Нервные пальцы впились в сумочку, белую, как сжатые губы. Казалось, она сама превратилась в полет. Она чувствовала единение с крылатой машиной, словно это был велосипед. Противоречивые чувства раздирали ее пополам: хотелось броситься в объятия к любимому человеку – и хотелось никогда не возвращаться туда. Больше всего она мечтала о том, чтобы разбился самолет. Но он не разбился, и Юлина нога ступила на родную промокшую землю. Воспоминания градом посыпались на нее.
Отец, папа, папочка… Когда Юля была маленькой девочкой, он часто носил ее на плечах. Потом родители обычно уезжали, а ее забирала скупая старая дева – тетя Света. Потом отец пошел на пенсию. А мать – она всегда была домохозяйкой.
Юля-школьница стала стесняться своих пожилых отца и мать, тогда как у ее одноклассников папы носили джинсы, а мамы – маникюр и макияж. Самыми трудными были будни после родительских собраний. Как правило, отец выступал невпопад, ссорился с учителями, неумело пытался защитить двоечников и разгильдяев, которые понимали все наоборот (как и их родители), а потом дразнились и стрелялись из рогаток. Однажды железными шпонками они изрешетили ноги Юлиного отца, когда он выходил после такого собрания из школы.
А еще Юля сгорала от стыда, когда ей покупали новые вещи. Боясь обидеть родных, она надевала неуклюжие сапоги и бездарные шапочки, доходила до угла, переобувалась в туфли (которые хотя бы не болтались в голенищах) и прятала капор или заячью ушанку в портфель. Отсюда и Юлина тугоухость (из-за которой она не пошла в консерваторию), и больные колени.
Юля любила общество своих ровесников, но не могла позволить себе сблизиться с ними: приглашать их к себе – немыслимая идея. А идти к ним в гости, значит, все равно неминуемо в знак ответа гостеприимства. Дом Юлиных родителей напоминал свалку. Мать всюду складывала узелки, отец притаскавал железки и всякие отходы производства. Целый день не убиралась постель, потому что отец страдал спинными болями и часто прикладывался. Краны текли, на кухне постоянно жарился на сале лук, и даже зимой не переводились мухи, не говоря уже о тараканах.
Но все это можно было перетерпеть, если бы не постоянные вздохи о прошедшей молодости и потере сил.
Когда школа осталась позади, Юля не пошла на выпускной бал. Во-первых, потому что на вечер нельзя не пригласить ее плохо одетых родителей, а во-вторых, она хотела немедленно покинуть отчий дом, пока хватает характера от впечатлений окончания учебы.
Она уехала в первый попавшийся город и поступила в первый попавшийся техникум, совсем далеко от мечты. Письма, которые писала мать, она просила читать свою подружку по общежитию, которая потом пересказывала суть. А сутью было все то же: как им плохо без Юли, как сдает здоровье, как они постоянно волнуются и стареют. В конце концов, Юля просто выбрасывала нераспечатанные конверты и писала банальные ответы: «У меня все в порядке. Деньги зарабатываю санитаркой. Хватает». В одном она была благодарна Богу: что они оба живы и жива тетя Света, которая к ним регулярно ходит со свежими сплетнями и не дает скучать. И молилась, чтобы это продолжалось еще долго. Или чтобы все трое умерли быстро в один день.
Но вот пришла телеграмма: «Юля, разве ты не получала моих писем? Папа в тяжелом состоянии. Приезжай попрощаться». Вот почему она и здесь.
Отец лежал на своей старой тахте под стеганым одеялом, весь в грелках, и стонал. Исхудал, щеки впали, подбородок закрыла незнакомая седая борода.
– Дед, Юля приехала! – шумнула ему в ухо тетя Света.
– А? Юля? – раздались слабые шамкающие слова. – Ю-ля!
Он приоткрыл веки, на лице обнаружилаь беспомощная улыбка. Глаза, голубые и чистые, как у многих выживающих из ума стариков, забегали и засверкали точечными зрачками. Он приподнялся на локтях и взглянул на дочь:
– Юленька! Какая ты у меня выросла. А давно ли в ползунках бегала? А я вот, видишь… Умирать собрался. Мне бы еще хотя бы чуть-чуть дотянуть, чтоб на жениха твоего посмотреть. Да куда мне! Хорошо, хоть тебя дождался. Ты прости меня, дочка, прости, милая, что я не смог тебе машину купить. За бедность прости, девочка. И за старость тоже прости.
Что-то в Юле оборвалось и упало на дно океана, а сердце разбилось на тысячу острых ножей.
– Юленька, доченька, это ты! – кто-то взял ее за руку. Она оглянулась и увидела сморщенную, как черепаха, старуху. Она пригляделась и узнала в старухе мать.
– А я уж думала, моя мечта не сбудется, и папа тебя не увидит, и ты не застанешь его в живых. Я так рада! Я ведь тоже совсем плоха! – и она затряслась, как лист на ветру, и зашлась в сухих беззвучных рыданиях.
Юля! А может, бежать? И почему они не скончались, пока ты была в самолете! Или лучше тебе самой умереть, лишь бы не быть во власти этой неукротимой жалости, которая жалит миллионом жал. И еще, и еще, и еще… Вокруг зашумело, загудело и поплыло, а потом закружилось, как в «Мойдодыре» и понеслось кувырком. И исчезло, оставив на пепелище только безразличие.
Юля сидела у изголовья умирающего отца и равнодушно ожидала, когда он испустит дух. Потом точно так же она проводит в последний путь маму и тетю Свету. А потом, когда от мучителей ее будет отделять гробовая доска, она пустится в длительный поиск: чем уничтожить то самое безразличие, которое появилось в тот самый день.
Свинья
(Больная П., 65 лет, остаточные явления органического
поражения центральной нервной системы)
… Машенька была старшей в многодетной семье Анастасии Петровны. На ее юные плечи ложилась вся тяжесть участи домохозяйки, а мама зарабатывала нелегкие деньги.
Машеньку любили все. Она вставала с петухами, доила корову, убирала хлев, кормила уток и цыплят. В восемь часов она будила Шуру и Колю и собирала их в школу. Потом ее сменяла баба Нюра, мамина троюродная сестра, и Маша бежала в школу сама. После занятий она на ходу перекусывала, на ходу учила уроки, а в основном – мыла, готовила и обстирывала пятерых малышей. Ей некогда было задумываться о том, хорошо ли ей живется. Но, наверное, ей было все-таки не скучно, потому что она все время напевала веселые песенки.
А сегодня у Машеньки выдался очень хлопотный день, даже пришлось не ходить в школу.
– Машенька! – кричала из хлева баба Нюра. – Надо еще тряпок принесть – еще лезуть!
Машенька разрывалась между двумя роженицами (у животных это бывает часто – один другому как бы подает пример). С утра свинья Матрена поросится, а вот сейчас кошка Пенка надумала рожать!
– Маша! Неси тряпье!
Маша вприпрыжку поскакала в хлев со старыми пеленками.
У свиньи началось кровотечение. Баба Нюра засовывала тряпки ей между ног.
– Маша, беги за фелшером!
– А котята?
– Топи скорей, не нужны, от них потом не избавишься.
Маша снова побежала в дом. Кошка Пенка, вывернувшись животом вверх, лежала, мурлыча, на подстилке. Четыре крошечных мордочки с писком тыкались беспомощными носами в шерсть, ища, к чему присосаться. Маша невольно залюбовалась, потом спохватилась и понеслась к колодцу за водой.
Поверхность холодной воды еще не успокоилась. Ждать было некогда. Маша засучила рукава, оторвала от кошки всех четверых котят и опустила их в ведро вместе со своими руками по локоть. Котята с силой рвались на поверхность, Машины замерзшие руки еле удерживали их под водой. Наконец, они почти одновременно вытянулись и застыли, а вверх пошли пузыри. «Это смерть. Быстро. Движение сделалось неподвижным», – Маша никак не могла осознать этот переходный момент.
Пока она бегала за фельдшером, пока все вместе спасали свинью, пальцы, отошедшие от индевелости, продолжали помнить то ощущение исчезновения жизни, которое познали в ведре с колодезной водой. И ночью перед глазами было то же самое. Нечто подобное испытала Маша, когда выдавливала на спине Павлика чирьи. Какое-то чувство освобождения – когда гнойный стерженек выстреливает вперед, и на его месте появляется неожиданно глубокая ямка.
Наутро, в пять часов, Маша побежала в хлев посмотреть, жива ли свинья. Жива! Даже что-то ест.
– Тихо, не мешай ей! – это мама еще не ушла на работу и тоже беспокоится о Матрене.
– Мама, а что она ест?
– Порося. Ей это надо, силы набрать. Ну, я пошла, а ты посмотри, чтоб к Матрене никто не залез. Нюра подойдет через час.
Мама ушла. Маша присела на корточки и стала смотреть, как свинья пожирает своего ребенка. Тоненькие синеватые ножки постепенно исчезали в пасти чудовища. Машу пронзило непонятное чувство. Свинья уловила это и злобно посмотрела исподлобья на девочку. Затем зарычала и оскалилась, как пес. Но внезапно покачнулась – видно, сильно ослабела, и, подавившись, изрыгнула содержимое желудка назад. Маша смотрела на животное, не понимая, что нужно сделать. Свинья все глядела ей в глаза, по брылям стекали струйки испачканной слюны. Наконец, икнув, она перевела взгляд с Машиных глаз на блевотину, от которой шли пары и зловоние. Подвижный пятачок понюхал свою опрометчивость. Маша увидела в луже куски пережеванных хрящей и поеденные поросячьи ножки. Свинья икнула опять и неторопливо, смакуя, пожрала еще раз то, что пыталась пожрать прежде.
… Омерзение Маши было настолько велико, что оно уже не было омерзением, а было недоумением, ступором или чем-то еще совсем неизвестным. Она понуро шла из хлева в дом. Из маленькой комнаты послышался детский плач. Это проснулся младший – Семен. Маша, с совершенно отрешенным лицом, взяла его на руки и села на постель рядом. Малыш кричал, потом внезапно успокоился и исподлобья, точно с таким же выражением, как недавно Матрена, посмотрел на сестру. В Машиных ушах звенело, в глазах стояла свинья, пожирающая безобразную теплую лужу, ее кровоточащая промежность, котята, застывающие в руках, мама, рожающая Семена прямо в этой комнате… Маша расстегнула свой халатик. Под халатиком набухли две маленькие грудки. Она приложила к правой из них сердитое лицо Семена, и он впился в нее губами, по-прежнему исподлобья сурово глядя в Машины растерянные, распахнутые, недоуменные, с расширенными зрачками, глаза. Кошка Пенка терлась о ноги и улеглась, грея живот. Щекотание соска маленьким язычком стало распространять блаженство. И девочка стала успокаиваться, успокаиваться и чуть не заснула и не свалилась со стула.
Этюд
(Больной С., 27 лет, маниакально-депрессивный психоз)
Родители Иванушки были художниками. Мама работала оформителем на заводе, папа – преподавал в изостудии. Как все настоящие художники, он имел длинные волосы, бороду и загадочный вид. Он часто ходил в лес на этюды и брал с собой сына. Отца тоже звали Иван.
Иван и Иванушка дружили и, казалось, понимали друг друга без слов. Иван-большой обычно выбирал полянку, расставлял этюдник и долго смотрел вдаль. Затем быстро-быстро набрасывал на мокрый лист разноцветные кляксы, потом делал несколько волшебных движений и превращал кляксы в пейзаж. Готовый этюд отправлялся на траву отдыхать, а его место занимал новый лист порезанного вчетверо ватмана – в предстартовую позицию для нового пейзажа.
Отец сыну рисовать не разрешал: «Мал еще, смотри, как пишут другие. А то можешь испортить природный дар». Был ли этот дар у маленького Ивана или нет, отец того еще не знал. Но уже тогда у него обнаруживался дар видеть цвет. «Созерцай!» – говорил Иванушке немногословный родитель, и Иванушка созерцал. Он прищуривал глаза и сквозь решетку ресниц видел радугу. Он мог различить десятки оттенков даже в белой скатерти на обеденном столе. Этот стол был единственным в «малосемейке», где все они жили. Семье приходилось ютиться в одной комнате уже семь лет и ждать долгоиграющую квартиру.
Кроме стола, в комнате был шкаф, полки (заставленные папиными этюдами и маминой чеканкой) и две никелированные кровати: большая – для родителей, и для Иванушки, где он и спал.
Когда маленький Иван укладывался в свою постель, он тоже созерцал. А когда выключался свет, и он закрывал свои черные пушистые глазки – перед внутренним взором наперебой плясали разноцветные кляксы и кусочки всего-всего, чего он насозерцал за день. Иногда эти кляксы становилась стремительной каруселью, летящим калейдоскопом, который все ускорял свой полет, и от этого невыносимо кружилась голова (а наутро в уголках глаз мелькали светящиеся колесницы). Мальчик боялся упасть в собственной постели. И тогда он открывал глаза и всматривался в темноту. А она давала ему свои гаммы светотеней и тоже была выкрашена в синий, фиолетовый, голубой. Но это было спокойнее, чем пестрота предсонного калейдоскопа. И потом, от видимой ночной «цветноты» (как он ее называл) начиналось что-то необычное с телом: оно куда-то исчезало. Оставались только зрение, слух и дыхание, и они были особенными. Они были преддверием в сказочный мир. А сказка начиналась маминым шепотом: «Заснул». И мама, шелестя распущенными волосами, скидывала с себя блестящий пеньюар. Она становилась совершенно нагой, а отец, нежно гладя ее белые груди, наслаждался их белизной. Маленький Иван продолжал сонно дышать, видел каждое родительское прикосновение и созерцал все – до последней капли истекающего семени; он слышал все – до последнего скрипа кроватных пружин. И с каждым разом все острее становилось восприятие информации, столь важной для Иванушкиного чувствилища. И все сильней становились его органы чувств. Он не ревновал. Он соединялся воедино с отцом и вместе с ним, его руками, с его зачерствевшим от возбуждения пенисом проникал в таинственное далёко. И он чувствовал ее влагу на своем не выросшем достоинстве, и он видел жемчужную улыбку самой желанной, самой близкой, самой доступной любимой женщины.
Она была еще ближе ему, чем отец. Первые годы жизни Иванушки прошли вместе с мамой и только с ней. До двух лет он сосал ее молоко и (прекрасно это помнил) прикидывался голодным, чтобы обнимать и трогать губами и языком плодородные, крупные, с большими круглыми сосками, живые источники наслаждения. Он любил также, зарывшись в мамин подол, внимать кисловатый запах ее нижнего белья. И украдкой воровал ее чулки, чтобы засыпая, не испытывать ее отсутствия. Он с ужасом вспоминал, как однажды мама застала его за этим занятием. И тут произошло самое главное событие, определившее все дальнейшее мировоззрение Ивана. Испуганный, как воришка, с чулком под носом, он застыл с раскрытыми глазами в ожидании: каким оно будет, его первое наказание за эту постыдную проделку? Но мамины глаза понимающе кивнули, и жемчужная улыбка обнажила ряд стройных зубов. Мама подоткнула под его ноги одеяльце и спокойно отошла от кроватки. Наверное, она решила не заострять внимание, как многие мамы и папы, чтобы ребенок постепенно обо всем забыл.
Шло время. Иванушка уже осваивал акварельные краски. И ночные бдения стали незаметной привычкой. Но квартиру все не давали. И хотя мама уже год как перестала переодеваться при сыне, не было даже ширмы, разделяющей их постель. И однажды среди ночной сказки Иванушке стало так внезапно хорошо, что на миг он полностью потерял осознание самого себя. А во сне ему привиделось, будто он ныряет в теплое молоко и тает в нем, как кусочек масла. Утренний будильник огласил подъем. Пора вставать, делать уроки и идти в школу во вторую смену. Но что это? Маленькое пятнышко на его простыне и совершенно мокрые пижамные брючки! Неужели Иванушка, такой взрослый, не проснулся, чтобы побежать в туалет? Краска стыда залила его оттопыренные уши. Иван снял штаны, вывернул их на изнанку и подошел к свету, чтобы получше рассмотреть. Он посмотрел, поднес к носу и… «О счастье! Сегодня ночью я стал мужчиной!». И, ликуя, он запрыгал по крашеному полу босиком. «А вдруг?» – лицо Ивана в предвкушении чуда сделалось малознакомым. Он посмотрел на часы, на задвинутый дверной шпингалет. Бросил пижамные брюки в сторону и, подбежав к родительской постели, сдернул рывком одеяло. Сердце его остановилось: там, на накрахмаленной простынной полосе, он различил едва заметный полукруг и несколько подтаявших коричневых клякс, похожих на папины этюды.
Сначала нерешительно и боязливо он подался вперед, затем кинулся лицом на эти пятна и блаженно зарылся в постельный батист, чувствуя, как заползает в ноздри обворожительное благоухание. Никогда еще не была так близка к нему та женщина с ровными жемчужными зубами, которую он так безнадежно и страшно любил.
Катамнез5
(Больная С., 70 лет, психопатия)
Апрельский блик хотел проникнуть сквозь окно и пасть на стену, но лишь остался нарисованным на стекле. Даже ясное утро здесь темнее. А двери ужасающе скрипят, сколько не смазывай их петли. Звуки в этом доме такие странные, каких больше не услышишь нигде. И если яблоко сорвется с ветки и ударит и шиферную крышу, кажется, что с неба упал белый кирпич. А если кто-то пройдется по комнатам, половицы затрещат, как старые кости. Вода из крана стучит, как крупный град, а железные миски, ударяясь друг о друга, долго на могут прийти в себя, издавая продолжительный тоскливый гул. Здесь мрак, туман, здесь пасмурная осень. Здесь минус жизнь. Здесь плохо. Здесь чего-то не хватает. И хотя в доме давно уже никто не умирал, в воздухе стоит столбом запах мертвечины, то удаляясь, то концентрируясь почти до зрительного образа.
Этот дом выглядит добротным, со всех сторон ухоженным (если не открывать шкафы и тумбочки). Все фундаментальные дефекты тщательно замазаны, повсюду избытки ковров и излишки половой краски. Но дом угрюм. Он сидит в низине, глядя исподлобья четырьмя небольшими окнами и прячась за невысокими кустами.
В доме пять комнат, но только в одну из них заходит полноценный свет, и не скрипят половицы. Когда-то здесь жили старые родители, а теперь вместо железных кроватей расставлен мягкий уголок, а вместо «лампочки Ильича» повисла хрустальная люстра. Эту люстру оставила бабе Зое невестка за несколько лет проживания. Она когда-то там жила с мужем и ребенком. Правда, недолго. Когда баба Зоя почувствовала, что больше не имеет власти над сыном, – вышвырнула всех и потребовала платы. Сейчас эта комната пустует и служит вроде как для гостей, которых здесь никогда не бывает. Но зато бывают соседи (обычно приходят воспользоваться баб-Зоиным

