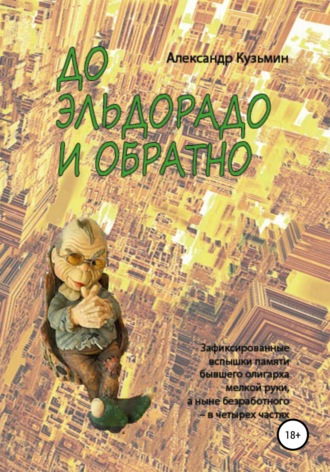
Полная версия
До Эльдорадо и обратно
Ничего не придумав сам (это вам не физика плазмы), я решил отправиться за советом в метрополию, то есть в головной офис, в Калугу.
Сел на электричку, под песни цыган (чем не купец?), приехал.
Забежал к маме, вещи бросить. Вид у неё был обеспокоенный.
‒ Что случилось? Почему на нервах?
‒ Сашенька, тут отец какую-то факторию придумал, а когда изложил идею заезжим коммерсантам, сотрудникам самого Артёма Тарасова, те его на руках до квартиры донесли ‒ так мысль понравилась. Как бы чего не вышло.
Артём Тарасов ‒ звезда коммерции тех времён. Особенно прославился тем, что его зам, будучи честным коммунистом, заплатил 90 тысяч (!) рублей партийных взносов, чем вызвал всесоюзный шок. Вот этот-то зам со товарищи, по словам мамы, и пёр отца на третий этаж, выражая своё восхищение.
‒ Ладно, мам, не волнуйся, узнаю, как и что ‒ может обойдётся.
Поехал к отцу на работу, захожу в кабинет. Кабинет – это комната аж в 6 кв. м, на двоих с главным бухгалтером. Босс сидит, углубившись в чтение толстой книги, что уже само по себе меня потрясло.
‒ Ну, чего тебе?
‒ Так, приехал посмотреть…
‒ Что, как заработать не знаешь? Как догадался? А чего тут сложного – ты ж кандидат физ.-мат. наук, они отродясь работать не умели. Один кандидат на производстве равен двум диверсантам.
‒ Это почему это? – вступился я за честь Высшей Аттестационной Комиссии
‒ Да очень просто. Диверсант – он до поры маскируется и работает хорошо, а этот «матьегонаук» сразу всё своими идеями начинает разваливать.
Ладно, приведу пример бизнеса учись сынок! Вот смотри: книга – «Коммерческие банки США». Из неё берём международный опыт и творчески применяем. Видишь слово – «факторинг». Это когда банк платит предприятию вперёд за уже отгруженную покупателю, но ещё не оплаченную продукцию. За это берёт небольшую комиссию – уразумел?
‒ Уж не за идею этого факторинга тебя на руках по Калуге таскают? Прибылью поделиться за науку не обещали? Они люди зажиточные!
‒ Как же без обещаний! Люди высокой культуры быта и бизнеса. «Однако, ‒ говорят, ‒ мелковата Калуга для настоящего размаха и алчности. Провернуть такое надо один раз, но по-крупному». И как три сестры: «в Москву, в Москву, в Москву!» ‒ поехали Минавиапром окучивать. Адреса, правда, своего не оставили.
Ладно, слушай внимательно, как творчески применять быт США к нашим реалиям:
У предприятия (дело было в 1989 году) есть два плана: план по производству и план по реализации – за срыв любого будет слово с буквой «ц» на конце, а премия объявится, если только оба к концу квартала выполнены.
Вник? Как не вник? Идём дальше.
В конце квартала, как всегда, аврал – всем миром, на морально-волевых, заканчивают «Изделие». Обычно хорошо, если к числу 25-му «Изделие» закончат, есть пятилетку в три года! Тьфу ты, то есть план по производству! Начинаем грузить. Ну, это отдельная песня, не буду объяснять, штука тонкая: начальник станции, всё такое. Короче, если к 27-му – 28-му отправим «Изделие» заказчику – всем премия, однако при условии выполнения плана по реализации. Чисто блиц у Знатоков! Как остановись? Как покурить? Ты, может, ещё и оправишься прямо тут? Стоять! Вникать!
А вот с планом реализации-то полное сальдо-бульдо, как говорят банкиры. Он считается выполненным только после того, как придут документы об оплате изделия заказчиком, а нужно, чтобы пришли они 1-го следующего месяца, крайний срок. А на дворе у нас 30-е, да дорога, да ещё заказчик там со своей военной приёмкой, да мы, банкиры, с пересылкой платёжек – в общем, труба, то есть золотое дно, я хотел сказать.
Ну, так вот. Числа этак 29-го появляемся я и мой бухгалтер на предприятии. Почему бухгалтер? Да потому, что больше сотрудников в банке нет – нас всего в штате двое. Начинаем шелестеть договором факторинга. Мы, мол, вам сейчас за изделие заплатим, вы план выполните, премию получите – только и вы нас уважьте. Заплатите вашим спасителям 5 процентов от стоимости изделия. От такой суммы ближайшие к нам сотрудники обычно теряют сознание, в кабинет директора несут валидол, а нас просят удалиться, пока целы.
Однако к вечеру 30-го в мозги несчастных въезжает понимание, что деньги на счету предприятия это одно, а премия это другое и, кляня Горбачёва, реформы, Минобороны с грёбаной приёмкой, а также жену, ждущую сапоги на зиму, директор подписывает договор советского факторинга, клятвенно обещая отомстить при удобном случае.
Вот так. 5 процентов от стоимости изделия умножаем на четыре квартала – это сколько получится, учёный ты наш? По лицу вижу: посчитал.
‒ Погоди, шеф, а если заказчик не примет изделие, ну там недоделки…
‒ Ты что? Я же сказал – творчески применять, мы ж не в Америке. Во-первых, где он, бедолага, другое изделие найдёт? Во-вторых, он это изделие в другое изделие вставляет, и у него тоже план по производству, отгрузка и т.д. – в общем, я об этом уже толковал.
‒ А средства?!
‒ Это ты – откуда деньги у банка на оплату факторинга, умник? Ну, напрягись, подумай.
Страшная в своей гениальности мысль, пузырясь, всплывала из подсознания, заполняя сознание.
‒ Ты хочешь сказать, что тоже предприятие положило деньги на депозит в твоём же банке под 3 процента годовых?!
‒ Я хочу сказать, что меня представители ЦБ ждут – я им лекцию по факторингу читаю. Иди, работай.
Эпизод четвёртый. Внешнеэкономическая деятельность, страшная месть, а также, как я посрамил честь Родины
«Для кого даже честь – пустяк, для того и всё прочее ничтожно».
Аристотель. Собрание сочинений (по-видимому)
Освоив основные банковские операции, о чём речь шла выше, руководство банка решило, что пора переходить к международной деятельности. Тогда все поголовно были уверены, что заграница – просто рай земной.
Я лично слышал от моего знакомого году уже 1990-м, как хорошо иметь бизнес в Нигерии – не то, что в СССР. При этом он показывал мне письмо оттуда, где предлагалось недорого продать не то бриллианты, не то изумруды. У него даже хватило отваги и слабоумия поехать в эту самую Нигерию, где он благополучно и сгинул, ожидая выкупа при активном невмешательстве нашего консульства. Недалёкие нигерийские бандиты не смогли понять, для начала, что тогда у нас солидным бизнесменом считался банкир с уставным капиталом банка аж в 500 тысяч рублей (примерно 50 тысяч долларов – по курсу чёрного рынка), а главное, что для советских дипломатов в консульстве коммерсант был классовым врагом почище Пиночета.
Другой ухарь-купец предлагал мне приобрести фальшивые доллары. (Он так и сказал: фальшивые). Когда я выразил изумление, мол, зачем? Ответ последовал гениальный: «Так ведь дёшево!».
Прибавьте сюда ещё постоянное формирование секретных списков на конвертацию деревянных в зелёные какими-то шустрыми ребятами, требовавшими комиссионные вперёд, а также по-прежнему присутствие в уголовном кодексе статьи (по-моему, 88-й): операции с валютой, «вплоть до высшей меры», и вы поймете, что банку пора было выходить на международную арену.
И вот два знаменосца перестройки, отец и я, прибыли в представительство Дойчебанка в Москве с предложениями о взаимовыгодном сотрудничестве. Предложения сводились к следующему:
Дойчебанк, с одной стороны, даёт нам доллары (в крайнем случае, дойчмарки), а мы, c другой стороны, со временем, по-честному, может быть, вернём эту сумму рублями по государственному курсу – 60 копеек за доллар США.
Выслушав наше взаимовыгодное предложение, а также наш английский, директор представительства (здоровенная рыжая тётка) вызвала охрану и попросила нас покинуть помещение. Уходя, я из-за папиной спины что-то кричал про 1945-й и клялся никогда не открывать в Дойчебанке счета – хоть на коленях умоляйте.
И надо сказать, что я осуществил свою страшную месть – никогда не открывал счета в Дойчебанке, так им и надо!
Потерпев фиаско на фронте корреспондентских отношений с инобанками, отец отнюдь не пал духом.
‒ Санёк, ‒ наставительно сказал он, – не журись. Настоящий мужчина, когда ему плюнули в морду, утрётся и в те же двери – ещё раз, пока не победит.
‒ Это что же, опять к рыжей и жадной?
− Нет, мы эту проблему диалектически решим, про Гегеля – составную часть марксизма – слыхал? В общем, дадим несимметричный ответ, как наш Генеральный Штаб – рейгановским звёздным войнам. Сейчас на международную выставку поедем: других дураков, то есть партнёров искать.
У дверей выставочного павильона на Краснопресненской набережной нас встретил вёрткий мужичок лет пятидесяти – сотрудник какого-то торгпредства или бывший фарцовщик, сейчас не помню точно, в общем человек бывалый. В руках бывалый держал авоську (Это такая сетка для продуктов. От слова: «авось» что-нибудь купить удастся).
‒ А! – приветствовал он батю профессиональной широкой улыбкой дипломатов и фармазонщиков, – рад видеть, давно вас жду.
На меня он даже не взглянул, боковым зрением определив, что я так – staff.
‒ Ну, и где наши зарубежные контакты? – спросил отец.
‒ Не беспокойтесь, от меня, как от Джульбарса, – не уйдут.
(Джульбарс – это тот же Мухтар. Только первый служил на границе с Карацюпой, а второй – с Никулиным на Мосфильме).
Здесь хотелось бы сделать маленький (страницы на две) флэш-бэк, как выражается мой продвинутый сын, чтобы читатель, если таковой отыщется, осознал меру отчаянности отца, рискнувшего встретится с иностранцами, да ещё и в присутствии агента КГБ (А кем же, по-вашему, мог быть кадровый сотрудник торгпредства СССР?).
В далеком, 1957-ом, году отца послали в Великобританию принимать закупаемую продукцию «загнивающих» каппредприятий, чтобы потом по-тихому «цап-царапнуть» (как выразился недавно наше всё, а тогда выражались точнее – сп…ть) всю конструкцию и выдать её за новейшие уникальные разработки наших инженеров, закончивших рабфак.
Почему именно его? А потому, что тогда батя руководил отделом технического контроля завода и всех просто з…ал своими требованиями, которые он, садист, объявлял справедливыми. Например, категорически отказался принимать теплообменник, внутрь которого сварщица уронила маску вместе с десятком-другим электродов. Все доводы начцеха, что наличие этих предметов в межтрубном пространстве только улучшит теплообмен благодаря дополнительному завихрению потока и у него на этот счёт уже подготовлена заявка на изобретение, отец отверг, поскольку теории теплообмена не знал, а знал чертёж теплообменника. В общем, пришлось эту махину разбирать, так как выковырнуть посторонние предметы с помощью лома и рыболовной снасти не удалось. Так что на орденоносном заводе резонно решили, что пусть он лучше капиталистам мозги сушит.
Мама тоже поехала в Англию – люди в погонах очень заботились о моральной (читай: сексуальной) устойчивости наших граждан, а в этом плане маманя не уступала КГБ. Господи, какая устойчивость! Видели бы вы отцовский выходной костюм! Мама же отправилась на Запад в бабушкином плюшевом синем платье, зелёном пальто и бордовой шляпке с чёрной вуалью.
Пересадка у неё была в Париже. Советских граждан сопровождающий сотрудник органов разместил в ресторане, строго-настрого запретив что-либо заказывать. Валюты – оплатить хоть чашку чая – не было. Когда же мама попыталась достать из сумки припасённые бабушкой пирожки и крутые яйца, капитан в штатском и это запретил: нельзя показывать капиталистам, что денег нет. «Фоторепортёры снимут, во всех газетах пропечатают», – объявил он.
Так практически на грани голодного обморока прибыли в Лондон. Здесь случился конфуз. Мама не признала во встречавшем её мужчине мужа.
‒ Что вы меня морочите! – возмущалась она. – За кого вы меня принимаете? Что я мужа забыла за три месяца? Он у меня такой… а этот? Посмотрите!
‒ Женщина! Спокойнее! Прекратите срамить государство! – зашипел сопровождающий.
‒ Это ваш муж, просто костюмчик прикупил да shoes вместо сапог одел. Вы присмотритесь, присмотритесь!
(Видимо всё-таки опасения ЧК на счёт половой устойчивости не были лишены оснований).
Всю дорогу из аэропорта «Хитроу» («Это ж надо такое противное название придумать! Вот их капиталистическая сущность и проявилась!» – впоследствии возмущалась мама) она пролежала (буквально) на заднем сидении такси, боясь, что в неё выстрелят шпионы.
Кто-то теперь подумает, что всё это шутки, но это чистейшая правда – шёл 1957-ой год. Меня вывезти не разрешили – как я понимаю, оставили заложником с любимой бабушкой. (Эх, началась жизнь – не то, что при родителях. Кстати, эта черта – предпочтение бабушки и дедушки маме с папой – оказалась передающейся по наследству. Уже мой сын, когда жена приехала проведать, как ребёнку живется у деда, пробурчал: «И чего приехала? Кто её звал?»).
Так вот. Возвратившись на родной завод, мама умудрилась ляпнуть на профсоюзном собрании, что в Англии рабочие живут хорошо и Маркса не читают. Зачем она это сказала, непонятно, ведь всего пять лет назад она же безутешно рыдала на похоронах Сталина.
На следующий день отца вызвали в партком и посоветовали больше на работу не приходить (ещё, слава богу, что на дворе стоял не 37-ой, а 58-ой) – завод, мол, режимный, контингент политически грамотный – нечего на него пагубно влиять. Тут папа, цинично пользуясь тем, что Отец народов уже отдыхал в общей спальне с Вождём мирового пролетариата, потребовал приказ об увольнении с обоснованием. Приказ по непонятным причинам издан не был (земной поклон директору и главному конструктору), но на проходную, находящуюся в ведении 1-го отдела, пришло указание не пускать батю на завод. Самое смешное (это теперь, а тогда – не очень) было то, что про маму никто, включая профком, в этой передряге даже не вспомнил.
Ну и как бы вы, гордые, гражданско-правовые современники в этой ситуации поступили бы? На завод пройти нельзя – вахтёр сочувствует, но не пускает. Не ходить на работу тоже нельзя: уволят за прогул с «волчьим билетом». Задача! А вы говорите – андронный коллайдер.
Так отец что сделал? Приходил к 8-00 на проходную и там весь рабочий день стоял. И так три месяца. А тогда, между прочим, суббота тоже была рабочим днём, в том числе и в Еврейской автономной области (затерянной в монгольских степях советской исторической родине). Перефразируя известную песню тех лет: век не забуду «проходную, что в люди вывела меня!»
И батя победил! Указание – не пускать его на завод – как-то само по себе улетучилось, а приказа об увольнении не было (опять поклон директору и главному конструктору); всё и улеглось.
Теперь, надеюсь, понятно, почему встречу с иностранцами без утвержденного соответствующими органами спецзадания я считал прелюдией к героической работе под всполохами полярного сияния.
Итак, в сопровождении шустрого дядьки мы прошли на выставку. Посвящена она была передовым достижениям в области тары и упаковки. В общем, это неважно, чему; главное, смотрим: бизнесменов вокруг – видимо-невидимо. Стали мы по стендам ходить. Надо отдать должное нашему проводнику в «мир чистогана» (так обзывал Запад и часть Востока, В. Зорин – незабвенный обозреватель газеты «Правда» из этого мира почему-то не вылезавший), он достаточно многих там знал.
Скоро выяснилось, что никто из буржуев предложениями взять у них взаймы валюту не вдохновляется. Вместо этого они показывали на нас пальцами, таращили на нас глаза и подзывали приятелей посмотреть на этот аттракцион – коммерческих банкиров в стране развитого социализма. На все потуги завести разговор о бизнесе ответ был один: «Водка, икра есть? Нет? А больше нас ничего в России не интересует – ну, может, ещё нефть и золото – но это не наш профиль». Тем не менее, они радушно угощали городских сумасшедших кофе и бутербродами с весьма редко встречавшимися в окружающем выставку пространстве финской колбасой и норвежской сёмгой.
И вот тут-то до меня дошло, зачем нашему сталкеру авоська! Прямо по Чехову (а может, Станиславскому?): если на сцене висит ружьё, оно обязательно пальнет – мало не покажется. Ну, вы тоже, наверное, поняли эту нехитрую задумку: под прикрытием двух буревестников грядущей капиталистической революции, затариться дефицитом для семьи, пока они там «гордо реют», пытаясь выклевать валюту.
Мне оставалось в этих условиях только поддерживать честь Родины и отказываться, к удивлению окружающих, жрать и затариваться, следуя совету классика: «От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались».
Я героически сопротивлялся запаху колбасы, и смысл переговоров до меня не доходил. (Для понимания момента: мой сын на замечание его тётки: «Зачем ты ешь шкурку от колбасы?», – резонно ответил: «Это тоже кайбаска»). «Инобизнесмены» взирали на меня, как на ожившего героя русских былин: «Смотри, смотри, он ещё и на халяву не ест!».
Однако, когда чёртов финн, щедрая душа, открыл банку пива – мой патриотизм рухнул, как от удара Тайсона. (К тому времени, благодаря объявленной борьбе с пьянством и алкоголизмом, пива было не достать даже в гадюшнике «Мутный глаз», где и в лучшие времена в него добавляли стиральный порошок – для пены).
Тут как раз наш Харон, заполнив до отказа авоську и сунув подмышку десяток фирменных полиэтиленовых пакетов (тоже дефицит, за которым стояли в очереди!), объявил, что согласно международному бизнес-этикету нам пора выйти вон.
Так я потерял свою честь и посрамил честь Родины. Только не забытый до сих пор божественный вкус дешёвого баночного пива и остался от моего первого захода на капитализм.
Эпизод пятый. Кооперативный кредитный ресурс
«Движение – всё, цель – ничто».
Э. Бернштейн. Сказано где-то между 1850–1932 гг.
Заграница заграницей, а что-то предпринимать для обнаружения прибытка в балансе надо было. Капитала, чтобы пустить его в оборот не предвиделось, впрочем, как и самого оборота.
В этот момент на горизонте всплыл кооператор – мой друг из НИИ, также поверивший Горбачеву и его НЭПу. Выпив за встречу, потом за удачу, а потом за тяжёлую долю пассионариев, разговорились. К моему удивлению, у него тоже была напряжёнка с прибылью – а я-то, как и вся страна, был уверен, что кооператорам деньги с неба приходят переводом до востребования.
Однако столкновение в одном месте двух научных сотрудников и двух бутылок портвейна «три семёрки» дало синергетический эффект.
‒ Тебе хорошо, дал деньги и сиди себе, проценты подсчитывай – ни тебе склада, ни тебе транспорта.
‒ Да, дал, подсчитал, тебе их не вернули – считай дальше. Да и доверить мне сбережения народ не ломится – это тебе не международный кинофестиваль.
‒ Оно конечно, но всё равно у меня трудней. Постоянная смена товара и контингента: сегодня компьютеры есть, а завтра компьютеров нет – есть женские колготки, снова покупателя с деньгами ищи. Без денег-то – проблем нет. А, впрочем, постой. Ты говоришь, тебе никто денег не даёт?
‒ А тебе их суют, возьми, сделай милость?
‒ Знаю место, где денег, как народу в очереди за обоями в нашем магазе. Но там дадут только банку, на крайняк – филиалу.
‒ Это где же – в раю?
‒ У его ворот, в Сбербанке.
‒ Да совался я туда, в результате – навар от яиц.
‒ А ты с чем совался? Со своей мордой?
Тут я обиделся, хотя красавцем меня считала только мама, да и то в детстве.
‒ С договором.
‒ Это где «мы, цыгане, с одной стороны…»? Ну, не лезь в бутылку, нам её ещё сдавать. Ты же видел: там сплошь женский контингент, а мы с тобой с Ален Делоном имеем сходство весьма отдалённое.
‒ Что же мне теперь операцию по коррекции профиля сделать, а заодно и уши отрезать, чтобы лапшу не вешали?
‒ На счёт ушей это ты хорошо придумал, для банкира полезно, но лучше достать то, что женщины ценят больше мужской красоты.
‒ Это что же?
‒ Свою красоту.
‒ То есть?
‒ Предложи им мои колготки по сходной цене, а сам за это попроси кредитный ресурс по цене ниже сходной, банкир!
Последнее слово он произнёс так, что я понял – где-то он уже пытался взять кредит.
Тут, наконец, я въехал в тему (мне простительно: он был выпускником Физтеха, а я туда по конкурсу не прошёл) и засуетился.
‒ Значит план такой. Завтра к 9-00 ты к N-скому отделению Сбера подгоняешь грузовик и, как только я махну тебе из окна директрисы, начинаешь распродажу.
‒ Ты ещё карту достань, Кутузов, а в окне цветок выстави, чтоб бедный Плейшнер не ошибся, когда нижнее бельё вываливать.
План пошёл, как по Марксу: товар-деньги-товар. Ресурс, полученный в качестве кредита, опять вкладывался в женское бельё – друг работал творчески и ассортимент расширял.
Процентная ставка обсуждалась на закрытом собрании трудового коллектива N-ского отделения, с учётом качества исподнего. Дамы демонстрировали: сидит-не сидит, пытаясь при этом повысить эту самую ставку, а друга – заставить скинуть цену. «За такие трусы 15 процентов годовых?!» Ну, чисто песня «Коробейники».
На мои робкие поползновения задать классический вопрос типа: «Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги?», – друг отвечал словами, вынесенными в эпиграф.
Он даже наладил безотходное производство. Снарядил пару машин с остатками отвергнутых банкиршами (из-за оранжевого цвета) панталон в российскую глубинку, где оборотистый шофёр, надев на себя женские трусы и переоборудовав кузов пятитонки в подиум, продал их с невиданным гешефтом.
Тем не менее, месяца через два в моем банке образовался доход, а у моей жены новые колготки.
Эпизод шестой. Соцсоревнование
«Как же я теперь отличу твои деньги от моих? Если я стану отдавать тебе твои монеты, вдруг между ними попадутся мои? А своих денег я не намерен отдавать никому, никому!».
Раджа из мультфильма «Золотая антилопа»
Я был горд собой невероятно. Во-первых, достал жене колготки, чем поверг её в транс. Она подумала, что-либо всё это ей мерещится от усталости после осмотра главного паропровода на 21-ой отметке ТЭЦ-20, либо она по счастливой ошибке вышла замуж не за того человека, с которым расписывалась в ЗАГСе. Во-вторых, можно было выплатить себе премию и зажить!
Однако для начала надо было отразить в балансе доход, чтобы, отразив там же расход, получить прибыль. Подумаешь, скажет кто-то, делов! А вот и делов! Проблема была в том, что бухгалтера у меня не было – только подпись одной сердобольной женщины, которая взяла с меня клятву никогда не приставать к ней с составлением отчётности. Сам же я не отличал сальдо от бульдо. Пришлось звонить в головной офис: просить прислать помощь в виде бухгалтера. И дозвонился на свою голову. Услышав, что в филиале завелись средствА, ко мне нагрянула не только бухгалтерия, но и ревизия.
Перешерстив все мои операции в количестве пяти штук, они помчались на центральный телеграф (в комнатушке, которую я именовал офисом, мыши были, а телефона не было), сообщать, что деньги, как ни странно, действительно есть. Чего они там насообщали, не знаю – переговоры держались от меня в секрете. Однако результат до меня довели. Через два дня на моё имя прибыла подписанная Шефом депеша следующего содержания, цитирую близко к тексту:
90 процентов всей прибыли филиала перечислить в головной офис за «крышу».
Оставшиеся 10 процентов перечислить туда же для зачисления в «Фонд».
Строго указывалось на сомнительный характер проведённых мною операций по привлечению средств. (Сами они из Сбербанка, несмотря на все потуги, получили только горячее понимание, а женскую красоту и колготки я в отчётности предусмотрительно не отразил).
Большие риски на одного заёмщика (как будто у меня их было несколько).
В связи с вышеизложенным, мне объявлялся выговор и предписывалось в трёхдневный срок устранить и доложить.
Отдельным абзацем в конце этой государевой грамоты милостиво сообщалось, что премия будет мне выплачена в конце года по результатам (оцените формулировку) «социалистического соревнования между подразделениями коммерческого банка».
Мечта завалиться с женой в «Арагви» осталась в том же месте, где и была.
Эпизод седьмой. Бег с интеллектуальными препятствиями,
Ковровая дорожка и Белая мышь
«…да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш».
А. Гайдар (не путать с Е. Гайдаром)
‒ Наконец, филиал мне может пригодиться, – так приветствовал меня отец при очередном своём появлении в столице нашей Родины.
‒ Рад стараться! – бодро ответил я. К тому времени я уже усвоил содержание указа 9-12 Петра I (от 09.12.1708), где предписывалось: «Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый…».



