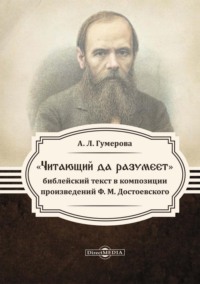Полная версия
Ангел мой, Вера
Артамон весьма гордился тем, что, примечая скуку или неудовольствие Веры Алексеевны, старался впредь не делать того, что вызывало у нее досаду, в особенности не говорить банальностей и не судить сгоряча о том, что могло быть ей мило. Он уж раз обидел ее, неосторожно посмеявшись над стихами г-на Жуковского, да так, что они с час не разговаривали. Вера Алексеевна прочла «Голос с того света»; Артамон легкомысленно заметил: «И вновь мечты, грезы, привидения, всё то, чем Василий Андреич нас щедро потчует». Она рассердилась не на шутку… Но за первой ссорой последовало и первое примирение. Примирились они за чтением стихов – Артамон, к большой радости Веры Алексеевны, оказался довольно начитан, хотя и хаотически. Из отечественных читал он что попало и как попало, зато немецких и французских авторов помнил наизусть целыми страницами.
Он жалел, что нельзя было рассказать Никите этого и Александру Николаевичу – они бы наверняка всё поняли и не стали трунить, но, чего доброго, упрекнули бы его в забвении товарищества. Даже добрый Матвей мог пустить в ответ изрядную шпильку, а после этого, как казалось Артамону, сохранять дружеские отношения было бы неудобно. Радость приходилось носить в себе, боясь расплескать, но она ничуть не умалялась от того, что не с кем было ею поделиться.
Вера Алексеевна редко выезжала и только под Рождество согласилась ехать на вечер к N. Она совсем отвыкла от балов, от общения с почти незнакомыми мужчинами. Прежде, до войны, танцевала она лишь с теми, кого знала коротко, потом носила траур и только в последнее время вновь начала немного выезжать, не столько ради собственного удовольствия, сколько ради того, чтоб составить компанию сестрам. Внешность ее не бросалась в глаза; Вера Алексеевна, изящная, но не блистательная, не могла царить в бальной зале, и новизна ее появления в свете после трехлетнего перерыва успела несколько выветриться. В начале вечера она протанцевала раз с каким-то пожилым чиновником, а дальше сидела рядом со старшей сестрой и ласково улыбалась знакомым.
София Алексеевна охотно проводила вечера за картами, не следила за модой, в тридцать лет с улыбкой называла себя «старухой» и в скором времени, вероятно, должна была превратиться в точную копию матери. Впрочем, Вере Алексеевне было с ней хорошо. Когда Sophie не жаловалась на здоровье и хлопоты, то становилась весела и остра на язык, как в ранней юности, когда они, возвращаясь с детского бала, с удовольствием разбирали своих кавалеров. Каждому Sophie давала забавное и меткое прозвище – Bebe[8], Монумент, Петрушка… и теперь, склонившись к сестре, Вера Алексеевна шепотом напомнила ей о прежней забаве. Когда в залу вошло знакомое семейство, состоявшее из долговязых девиц, за которыми по пятам шли столь же худые папенька с маменькой, Sophie с улыбкой шепнула:
– Ивиковы журавли… Вера, а вон и твой гренадер!
Вера Алексеевна перевела взгляд. Рядом с ее братом действительно стоял Артамон и наблюдал за ней веселыми темными глазами.
– Он не гренадер вовсе.
– Я знаю, это его Сашенька прозвала. Сейчас трусить перестанет… подойдет… пригласит… – сдерживая смех, проказливо шептала София Алексеевна.
– Sophie, перестань.
– Хочешь пари? Вот, вот, идет уже…
Артамон поклонился сестрам.
– Вера Алексеевна, вы окажете мне честь протанцевать со мной?
Она немного испугалась… вальс она танцевала редко и уже почти совсем решилась отказать, но подходящего предлога сразу придумать не удалось. И Артамон смотрел с такой радостью и надеждой, что Вере Алексеевне недостало сил для отказа – и тут же самой стало легко и радостно. Рассерженная почти беззвучным смехом сестры, которая, скрывая улыбку, часто-часто обмахивалась веером, она подала Артамону руку и как будто впервые заметила, что головой едва достает ему до плеча. Вера Алексеевна вспомнила: «Гренадер» – и улыбнулась сама, глядя в ласковые, лучившиеся смехом ей навстречу темные глаза.
Танцевать с Артамоном было необычайно легко. Несмотря на рост и крупное сложение, двигался он ловко и держал свою даму бережно, почти неощутимо, однако надежно, не подходя слишком близко и не отстраняясь далеко, не внушая ни неловкости, ни скуки. Вера Алексеевна боялась, что придется разговаривать – на лету, в танце, совсем иначе, чем в гостиной, – но он молчал и внимательно смотрел на нее. Первоначальное смущение ушло, она не чуяла пола под ногами… не сразу даже почувствовала, что с непривычки у нее кружится голова. Должно быть, лицо ее выдало – Артамон прокружил Веру Алексеевну в последний раз и подвел к прежнему месту, держа все так же бережно и крепко, словно боясь отпустить и потерять.
– Вы позволите еще пригласить вас?
Она кивнула. Артамон нерешительно оглянулся, словно раздумывал, не отойти ли – но не отошел. Оглянулся опять…
– Вы ищете кого-то? – спросила Вера Алексеевна.
Он решительно мотнул головой.
– Нет.
Артамон слегка покривил душой: он опасался встретить здесь Никиту или еще кого-нибудь из знакомых по бурным совещаниям в Шефском доме. Он сознавал, что совершенно не оправдал оказанное ему доверие, и вел себя самым легкомысленным образом, вместо того чтобы мыслить и рассуждать серьезно, но отчего-то разговор a la Nikita с Верой Алексеевной не клеился. Артамон никак не мог избавиться от мысли, что их разговоры о войне, о стихах, о друзьях юности серьезны ничуть не менее, чем политические беседы. Мысль просвещать Веру Алексеевну не приходила ему в голову. Что Вера Алексеевна умна – во всяком случае, умнее его, – он признал с самого начала, признал спокойно и с восхищением. Быть с женщиной, которая выше его во многих отношениях, казалось Артамону исключительным счастьем, подарком судьбы… Подле нее ему не хотелось выказываться умом или спорить, достаточно было просто сидеть рядом и слушать.
– Скажите, Вера Алексеевна… вы помните ли, о чем говорил Никита тогда?
– Отчего вы вдруг об этом вспомнили?
– Так… интересно стало, как вы об этом рассуждаете.
Вера Алексеевна задумалась.
– Что я могу сказать? У меня меньше возможностей для наблюдения, чем у вас и у вашего кузена. Мое мнение таково, что в мире есть много зол, которые невозможно истребить человеческими усилиями. Но в свое время они, по воле Провидения, самым простым и легким способом исправятся. Ход жизни на каждом шагу оставляет в прошлом какое-нибудь несомненное зло…
Никита и Александр Николаевич, пожалуй, сейчас разочаровались бы в нем!
Они с Верой Алексеевной и еще танцевали, и разговаривали, почти не отходя друг от друга весь вечер и не смущаясь любопытных взглядов Софии Алексеевны. Когда гости стали разъезжаться, Артамон в передней, улучив минуту, подлетел к Сергею Горяинову.
– Сережа, ради Бога, уговори Веру Алексеевну сесть в санки. Соври что-нибудь, скажи, что в карете места нет.
– Ты, стало быть, хочешь, чтоб она обратно с тобой ехала?
– С нами, Сережа – как можно!
Сергей с сомнением оглянулся.
– Я, признаться, думал как-нибудь так устроить, чтоб с Мари Челышевой ехать…
– Сережа, голубчик, умоляю – составь мое счастье! Я, в конце концов, как старший имею право… А я тебе за это добуду билеты в оперу на весь сезон, будешь сидеть и любоваться на Мари.
– А билеты какие? – подозрительно спросил Сергей.
– Ясно, что не в раек! Хоть в ложу, хоть в кресла… Поскорей, корнет, они уж выходят! Я на улице буду ждать…
Сергей, мысленно кляня приятеля, подошел к одевавшейся сестре.
– Послушай, Вера, маменька просила передать, что обещалась в карету на твое место посадить Варвару Петровну. Так уж ты, пожалуй, поезжай со мной.
И, едва услышав согласие, торопливо, почти бегом, повлек ее на улицу. Вера Алексеевна, в удивлении, не успела даже оглянуться на мать.
Санки стояли у подъезда… Заметив в них второго человека, она остановилась в нерешительности, но тут Артамон протянул руку и крикнул: «Вера Алексеевна, садитесь!» Бог весть что успело пронестись в голове Веры Алексеевны в эту секунду. Стремительный уход, похожий на похищение, встревожил ее, но возбуждение, вызванное балом, и нетерпеливый шепот брата, твердившего: «Ну же, Вера, садись скорей», и улыбка Артамона, и его протянутая рука – все это было так необыкновенно и радостно, что она подчинилась… Сергей накрыл ей ноги полстью, вскочил сам, велел: «Трогай!» – и сел рядом с Артамоном на переднее сиденье, напротив сестры.
– Поезжай кругом, через мост, – негромко велел Артамон, чтоб Вера Алексеевна не услышала, и вновь обернулся к ней. Она сидела уставшая и бледная после танцев, но слабо улыбалась и, кажется, совсем не сердилась… Они не разговаривали, только раз Артамон спросил: «Вера Алексеевна, вы не замерзли?» – и она молча качнула головой в ответ. Санки неслись быстро и легко, чуть покачиваясь на ходу, по почти пустым улицам, и вскоре от встречного ветра действительно защипало щеки и стало больно глазам. Брат рассеянно и как будто с недовольным видом глазел по сторонам, а Артамон не сводил взгляда с Веры Алексеевны. Из-под шапки ему на лоб выбивалась темная, чуть волнистая прядь, приподнятые брови придавали всему лицу удивленное выражение, на воротнике ярко серебрился снег. Было в нем что-то несомненно вальтер-скоттовское. Если бы сейчас она приказала ему прыгнуть с моста в полынью – он бы прыгнул, не задумавшись…
Высадив Веру Алексеевну у подъезда горяиновского дома, где ждали с фонарями лакей и встревоженная горничная, друзья покатили в Хамовники.
– Нехорошо вышло, надо было хоть родителям показаться. Привезли, увезли… как разбойники. Вере-то Алексеевне не нагорит?
– Ей, чай, не шестнадцать лет, – равнодушно отвечал Сергей.
Артамон смущенно кашлянул.
– Только ты того… остальным не болтай.
– Однако! Чего вдруг ты смущаешься?
– Ей-богу, неловко… они все славные ребята, но невозможно грубые.
– Ты, капитан, давно ли в монахи записался? – насмешливо спросил Сергей.
– Сережа, я тебя в сугроб скину, ей-богу, – погрозил Артамон, недвусмысленно нажав плечом. – Я ведь не от нечего делать… ты себе не представляешь, насколько это серьезно.
– Так что же, ты любишь ее? – спросил Горяинов после некоторого молчания.
– Люблю, больше жизни люблю!
– Что ж, и жениться намерен?
Артамон задумался… До сих пор мысль о женитьбе как-то не приходила ему в голову, но так естественно было и дальше представлять Веру Алексеевну рядом с собой, что он запросто ответил:
– А что же, и намерен.
– Зачем? – с искренним недоумением спросил Сергей. – В двадцать три года одни мужики женятся. Вот так расстаться со свободой… не понимаю. Ты, конечно, порядочный человек, и я первый порадуюсь, если сестра замуж выйдет, но, откровенно говоря… нне понимаю!
– Что значит «зачем», корнет? Говорят же тебе – я ее люблю! Пустяки, свобода… А кроме того, Сережа, хочется обыкновенного человеческого уюта. Семейному всегда лучше, чем одинокому. Посуди сам: живут холостые как свиньи, извини меня, только что из корыта не лакают. В комнате как в помойной яме, набросано, разбросано, тут и обед стоит, тут же рядом сапоги в дегтю, и еще дрянь какая-нибудь валяется. Когда человек не женат, он как-то исключительно ни с чем не сообразен. Всё из рук валится, письмо надо писать, а в чернильнице черт знает что плавает, никогда не сыщешь ни табаку, ни бумаги, сосед в нумер собаку привел, и она, подлая, тебе весь мундир обсуслила… Вообрази: каждый день приходить вечером и видеть любимое существо… ведь это рай!
Он выпалил это и тут же сам смутился – всё это было не то, не главное и звучало чертовски глупо, словно ему была нужна не жена, а экономка. Семейная жизнь и правда не отпугивала, а привлекала его, но как можно было объяснить это Сергею, который охотно предпочитал товарищеские развлечения семейному очагу и узаконенным радостям? Может быть, в Артамоне особенно сказались барское домоседство отца и ein Nest bauen[9] матери-немки; может быть, проведя детские и отроческие годы дома, не в казенной обстановке пансиона или училища, он помнил, как счастливы были отец с матерью и как они любили друг друга, невзирая даже на скудость, нездоровье, взаимные шпильки…
– А ты уж думаешь, что покой и порядок сами собой враз сделаются, как только женишься? – иронически спросил Горяинов. – Женился – так уж прямо и в рай попал? Нет, брат, я посмотрю, что ты скажешь, когда жена запоет тебе про долги, про детей, про скверную кухню… сам видал этих офицерских жен. Из такого рая куда угодно убежишь.
– У тебя, Сережа, очень цинический взгляд. И свою сестру, кажется, ты совсем по заслугам не ценишь. Вера Алексеевна ни разу не пожалеет… Я ее так люблю, что никогда ей повода не доставлю, да и сама она не из таких, кажется, чтобы жаловаться по пустякам.
– Почему же ты так уверен?
– Не знаю, Сережа, но отчего-то уверен… знаю твердо, что мы с ней будем счастливы. Да, счастливы! Ты посуди сам, какое исключительно счастливое наше знакомство.
– Ты, Артамон, старше меня, а рассуждаешь, как четырнадцатилетний. Ну разве можно с такими представлениями заводить семью? Жениться только потому, что надоело жить как на постоялом дворе, где некому пуговицы пришить… честнее, по-моему, завести себе метреску – кавалергарду любая на шею бросится. Для чего же жениться? С твоими взглядами – ну что у вас будет за семья?
– Корнет, не забывайся!
– Виноват-с, – лукаво ответил Сергей. – А все-таки?
– Ведь ты же ей брат – казалось бы, должен желать Вере Алексеевне счастья. – Артамон покраснел. – За каким дьяволом ты меня отговариваешь? Я же говорю тебе: люблю ее больше жизни! А ты мне про постоялый двор и пуговицы… Черт с ними, с пуговицами! Отчего ты не понимаешь?
– Ну прости, прости… я все прекрасно понимаю, ты влюблен, ничего не смыслишь, ну и дай тебе Бог всяческого счастья, а Вере с тобой терпения.
Глава 3
Я вижу, что только мы с тобой отчаянны, – с досадой сказал Артамон. – А остальные отошли, чуть до дела. Разговору прежде много было…
Никита с досадой оттолкнулся от подоконника.
– Чего ты от меня хочешь? Заладил одно и то же…
– Ты сам говорил!
– Я говорил и не отрекаюсь, да неужто ты сам не понимаешь? Что дальше? Смута, безвластие… Ты этого хочешь, что ли?
– Не кричи на меня, Никита. – Артамон с горечью махнул рукой. – Я ведь вижу, как вы на меня смотрите. И Александр отдалился…
Разговоры в Шефском доме по-прежнему были полны огня и страсти, но Артамону уже чего-то недоставало… Ему казалось странным, что можно разговаривать все об одном и том же, не приходя к согласию и не начиная решительных действий. До Артамона дошел слух о насмешке Лунина – тот якобы сказал Никите: «Вы сперва хотите энциклопедию написать, а потом уж революцию сделать». Эти слова все более оправдывали себя в его глазах. Лунин желал либо действовать, либо уж окончательно отступиться, но только не ждать годами сигнала, как начальственного кивка в чужой передней, не кормиться обещаниями и надеждами…
Ожидание расхолаживало, попусту взвинчивало нервы; Артамон полагал, что все должно случиться и сделаться сразу, внезапно… что именно и как именно, было не так важно. Гораздо важнее казалось начать, ударить, атаковать, и поэтому отрывистые и сердитые Никитины увещевания действовали на него, как ведро холодной воды. После таких разговоров он обыкновенно чувствовал себя ошеломленным и униженным, словно Никите пришлось разъяснять ему азбучные истины. Никогда и никакие герои древности, никакие рыцари, никакие Мазаньелло не окружали свое дело таким количеством отговорок и проволочек, как Никита и Александр Николаевич.
А главное, круг, который некогда казался единым и нераздельным, начал, по пристальном изучении, распадаться на двойки, тройки, четверки… Одни требовали реформ, другие духовного обновления, третьи народного образования – немудрено было растеряться! То, что между друзьями может не быть единодушия по важнейшим вопросам или что мнение бесспорных глав общества, самых умных, самых бесстрашных, то есть настоящих героев, может быть оспорено, смущало Артамона… как смущало и то, что он, со своей горячностью и желанием немедленно действовать, остался в меньшинстве.
– Вам, Никита, как будто и вправду интереснее говорить, чем делать, – заметил он. – Это все твое масонство… да! Одна философия…
– А я тебя еще раз убедительно прошу до масонов не касаться, если ты дорожишь моей дружбой.
– Может быть, мне тогда на собраниях и вовсе помалкивать? – язвительно спросил Артамон.
– Пожалуй, так действительно будет лучше, – спокойно ответил Никита. – По крайней мере, произведешь наконец впечатление серьезного человека.
– А! Так все мои слова тебе недостаточно серьезны и в мои намерения ты не веришь?
Никита нарочитым жестом приложил ладони к вискам.
– Только не начинай, ради Бога, с начала, я тебя прошу.
– Было бы что начинать… Твои любезные приятели, Катенин с Гречем, надо мной мало не в глаза смеются, а я терплю. Ты мне тогда про королевство Датское напомнил, а я тебе вот что скажу:
Et les entreprises les plus importantes,Par ce respect, tournent leur courant de travers,Et perdent leur nom…[10]Артамон оборвался на полуслове.
– По крайней мере, скажи на милость, ты хоть согласен по-прежнему, что тиран преступен и должен быть… казнен?
Никита молча кивнул. Знакомые слова, столько раз повторяемые, начинали раздражать. Так раздражает тихого и склонного к созерцательности человека беспокойный сосед по комнате, который лезет с расспросами, кашляет, стучит сапогами, курит без спросу – пусть не со зла, но мешает, мешает бесконечно. Артамон был упрям, временами до назойливости, если желал добиться своего. Трудно было сказать, что Никита не доверял Артамону, но от беспрестанных разговоров об одном и том же ему становилось скучно. «Вот что получается из человека, который растет с простыми и добрыми, но бестолковыми родителями, без какого-либо духовного и умственного влияния, – думал он. – Шуму много, а большого ума не видно…»
Разговор не клеился и был близок к вспышке. Того единственного ответа, которого так ждал кузен, Никита не дал и дать не мог, и обоим было досадно. Не сойдясь темпераментами, они в последнее время как будто только и искали повода разойтись без ссоры. Артамон это чувствовал и считал себя виноватым. Чего-то в нем, по его мнению, недоставало, а он никак не мог уловить, чего именно… Мысль о том, что он уступает родичам во многом и никак за ними не угонится, не давала ему покоя.
Он предпринял еще одну попытку.
– Никита, ты знаешь, меня скоро командируют в Тамбов. Чтоб не зря ехать, дай мне, по крайности, право набирать единомышленников в Пятом корпусе. Хоть записку напиши, что ли…
Никита на мгновение задумался…
– А ты прав, – вдруг сказал он. – Я даже более того сделаю – дам тебе целую книжку и напишу в ней цель общества, и те, кого ты примешь, пускай в ней расписываются. Я тебя только об одном убедительно прошу – не распространяйся, ради Бога, с кем попало об истреблении, кинжале и прочем. Это неосторожно, в конце концов, всегда можно нарваться на донос. Обещаешь?
– Обещаю, ты только напиши.
Никита, казалось, сам вдруг воодушевился этой идеей – он сходил к себе на квартиру и принес небольшую записную книжку в зеленом переплете. Вернулся он не один, а с Катениным, который, как оказалось, там его поджидал, но Артамон обрадовался и Катенину, немедля простив ему недавние косые взгляды и усмешки. Катенин, похоже, заодно с Александром Николаевичем усвоил взгляд на Артамона как на балагура и забавника, которого не следует принимать всерьез. Раздражало это безмерно, до белой ярости… Из уважения к Никите и Александру Николаевичу Артамон не решался гласно потребовать объяснений – да еще Бог весть что вышло бы из них. С бойкими и острыми на язык гостями полковничьей квартиры Артамону было не тягаться. Быть шутом при Никите он не желал – и теперь всё отдал бы, лишь бы тот вновь заговорил с ним горячо и искренно, как осенью. И без того нелегко было смириться с тем, что кузен, годом младше его, смотрел и рассуждал как старший.
Все трое стеснились у стола, и Никита принялся писать.
– «…соединиться в Общество для того, чтоб связать нравственно отличных людей между собою и сим способом всем вкупе стремиться к пользе Отечества», – прочел он.
– Нравственно отличных… это хорошо, да!
– Ты не забудешь ли, что обещал?
– Как можно, Никита.
– Тогда слушай дальше: «Сим уполномочен штабс-капитан Артамон Муравьев набирать сочленов в 5-м Резервном Кавалерийском Корпусе». Ставлю подпись. Подпишите и вы, Катенин.
Теперь, когда у него появилась цель, Артамон вновь развеселился. Он принялся шутить с Катениным, даже расшевелил Никиту, а после их ухода стал представлять, какие разговоры будет вести в Тамбове с «нравственно отличными людьми» – непременно храбрыми и решительными, – и как пополнится ими общество, и с каким уважением взглянут на него Никита и Александр Николаевич. Запрет говорить об «истреблении», впрочем, несколько обескураживал его, но Артамон тут же признал, что Никита совершенно прав. Бывало, что из-за неосторожности заговоры раскрывались в последний момент и конфиденты шли на плаху.
От этой мысли нетрудно было перейти и к самому «истреблению»… Артамон представлял себе эту сцену неоднократно, и всякий раз в подробностях. После ухода Никиты и Катенина он даже достал пистолет и принялся целиться в зеркало, прикидывая расстояние. «Рука не дрожит… это хорошо. Нужно упражняться больше, чтоб и с тридцати шагов не промазать». Лицо, глянувшее на него из зеркала, было бледным и интересным, только глаза сделались круглыми, как у кота.
Как ни крути, выходило, что дело несложное, хоть во дворце, хоть на бале, хоть во время прогулки или на параде. Обставить его более или менее драматически – маски, кинжалы, плащи и прочее – зависело от обстоятельств и от того, следовало ли исполнителю покушения пасть на месте жертвой или бежать, спасая свою жизнь. Нужно сказать, оба исхода Артамон воображал с удовольствием и с трепетом, а в тех случаях, когда трепет переставал быть приятным, напоминал себе, что он недаром тезка Артемию Волынскому. Смущало его лишь то, что, в случае жертвы, придется, во-первых, навеки проститься с Верой Алексеевной, а во-вторых, вновь причинить ей боль утраты. Но и тут, поразмыслив, Артамон успокоил себя. Вере Алексеевне наверняка приятно будет помнить его как героя… а если жертвы не понадобится, тем более… а если даже и понадобится, может быть, до тех пор они успеют составить счастье друг друга, и, когда пробьет роковой час, она сама благословит его…
У него голова шла кругом.
«Вот теперь можно и предложение делать, – блаженно подумал он. – Мне, право, есть чем гордиться. И потом, Егор Францевич говорит, мне вот-вот выйдет в ротмистры. По крайней мере, не с пустыми руками, для успокоения совести. Конечно, окружить Веру Алексеевну роскошью я не смогу, но неужели она откажет мне из-за того, что я небогат? Она не тщеславна, кажется, и не привыкла к блеску… Пускай нас ждет бедная жизнь, но она будет счастливой!»
Он неосторожно взмахнул рукой, словно споря с кем-то незримым, и случайно спустил взведенный курок. Зеркало разлетелось вдребезги: пистолет оказался заряжен. В комнате повисло облако дыма. Артамон выругался от неожиданности, обернулся и увидел на пороге брата Александра – тот, обомлев, смотрел на него с раскрытым ртом.
– Ты что?..
– Господа, имейте совесть, – сказали из соседнего «нумера». – Кто там пули в стену садит?
– Я нечаянно, Митя.
Впрочем, Александр Захарович, вернувшийся с вечера, был настроен благодушно и на чудачества брата не сердился.
– Ну, слава Богу, хоть не убился. А ты зря в собрание не поехал, было премило. – Александр Захарович даже о приятном рассказывал мерно и не повышая голоса, словно читал нотацию. – О тебе справлялись, между прочим… tu avais du succès autrefois[11]! Ты вообще становишься каким-то анахоретом, ездишь на вечера черт знает куда, где никого не бывает… ну что ты улыбаешься?
– Так, Саша… ты рассказывай, рассказывай. Я очень рад за тебя.
Брат подозрительно взглянул на него.
– Того и гляди, тебя совсем забудут в свете, нехорошо… послушай, Артамон, я так не могу, ей-богу. Или прекрати скалиться, или выкладывай, что у тебя на уме. Не то я сейчас лягу спать, и попробуй только меня разбудить.
– Нет, Саша, честное слово, ничего такого… так что же в собрании?
Александр Захарович, все так же мерно, принялся рассказывать. Артамон слушал, улыбался знакомым именам… Брат казался ему совсем юным, а себя уж он считал положительным семейным человеком, обремененным совсем иными делами и заботами, нежели улыбки светских барышень. Роль степенного отца семейства Артамон примерял на себя так же легко, как и роль героя. Улыбаясь и кивая брату, греясь в лучах чужой радости, он думал о своем, но тут напомнила о себе и собственная молодость, и степенному отцу семейства стало решительно невозможно усидеть на месте. Захотелось сбежать по лестнице, взбудоражить спящие улицы, махнуть галопом далеко за город или хотя бы распахнуть окно и крикнуть что-нибудь на весь двор…