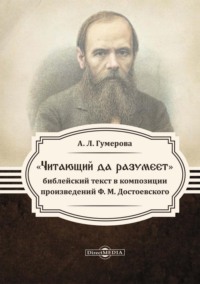Полная версия
Ангел мой, Вера
– А! ужасах. Поживи-ка с таким двор об двор – очумеешь. Это вы, Никита Михайлыч, голубчик, верно: кому Бог ума не дал, так вот и живут, прости Господи, беса тешат да соседей попусту беспокоят.
– Есть еще другое всем известное обыкновение, – продолжал Никита, прикусив губу и внимательно взглянув на молодежь, – брать людей во двор, развращать их, воспитывать в лакействе, отучая от полезного труда. И об этом также говорят открыто, не стыдясь. Из землепашцев делают гайдуков, шутов, живые игрушки, надсмотрщиков над своими же братьями-крестьянами… Детей малолетных, часто восьми или девяти лет, поселяют в грязную переднюю, поручая их воспитание людям грубым и жестоким, – вот где настоящие ужасы, ваше пр-во… зато как мы озабочены тем, чтоб, упаси Боже, борзому щенку не отдавили лапу. Стоять, как статуй, с трубкой или стаканом и быть свидетелем отвратительных барских нравов – хорошо воспитание! В Англии, говорят, существует подлинное рабство, возмущающее всех просвещенных людей. Оно заключается в том, что маленьких детей, едва научившихся ползать, отдают в ученики к трубочистам, и дети эти, больные и непоправимо искалеченные, редко доживают до двенадцати лет. Но, по крайности, они делают нужную работу… и все-таки это называется рабством и зверством! Как же следует назвать то, что в обычае у нас? И как воспитается человек, у которого лучшие, самые живые годы ушли на подаванье платка да беганье с трубкой? Уж верно, он не вернется в деревню, чтоб убирать скотину и есть тюрю с квасом – об отце-мужике он будет думать с презрением и стараться только, чтоб поменьше сработать и послаще поесть, имея всегда перед глазами пример своего барина…
В непритворном гневе Никита, с его живым и выразительным лицом, становился подлинно величествен… В обыкновенное время легко смущавшийся, он усилием воли подавлял свою застенчивость и заставлял себя говорить отчетливо и прочувствованно, но не слишком горячо, без лишней жестикуляции. В этом неуклонном внутреннем руководстве собою и впрямь было нечто героическое. Все собравшиеся за столом, не исключая и Артамона, наблюдали за ним с волнением и некоторым трепетом. Когда Никита своей небольшой красивой рукой, словно вспорхнувшей со скатерти, показал «маленького ребенка, вот такого», Любинька Горяинова потупилась, а Матрена Ивановна промокнула глаза шалью…
– Воспитаньем, убежденьем или силой, но расторгать узы между родителями и детьми бесчеловечно, – негромко, однако с сильнейшим убеждением вдруг произнес Артамон.
Вышло это неожиданно кстати и прозвучало так хорошо, что Никита даже оглянулся на кузена и одобрительно кивнул.
– Что было бы, если бы ваши сыновья, ваше пр-во, были бы от вас отняты и решением их судьбы занимались бы чужие, холодные люди? (При этих словах Матрена Ивановна вновь приложила к глазам уголок шали. Артамон хотел здесь тоже сделать рукой красивый жест, как Никита, но раздумал.) Я уж не говорю о дочерях – этого наверняка не выдержало бы ваше сердце. Мне трудно судить… мой отец сам владеет людьми, он бывает строг, но я уважаю его как человека, который не умножает чужого горя. Не можешь быть причиной добра – не твори и зла, я так понимаю… а пуще всего совершенствуйся и старайся быть полезен, – добавил он, украдкой взглянув на Никиту.
Вера Алексеевна проследила его взгляд и с улыбкой спросила:
– А сами вы как думаете?
– Это полностью и мое мнение, – вспыхнув, отвечал Артамон. – Не думайте, что раз я говорю улыбаясь, то настроен легкомысленно.
– Верно, – подтвердил Никита.
– Вы сказали – совершенствуйся и старайся быть полезен. Но в чем, по-вашему, надлежит совершенствоваться? – спросила Вера Алексеевна и внимательно взглянула на него.
Артамон как будто немного растерялся, но все-таки ответил:
– Я так рассуждаю: старайся больше любить ближнего и делай то, к чему тебя обязывает честь. Вы знаете, я читал из истории, как рыцари присягали своим сеньорам, обещая быть верными – но только если послушание не вынудит их поступиться честью. Честь была для них выше верности…
– Je comprends[2]… Люби ближнего и послушествуй старшим, – с легким разочарованием сказала Вера Алексеевна. – Уж больно на пропись похоже. Неужели вам, мужчинам, так трудно блюсти свою честь, что об этом нужно говорить особо?
– Это трудно, Вера Алексеевна, очень трудно! – с неожиданной горячностью возразил Артамон. – Только вы не смейтесь… но вообразите себе: тысяча мелочей, и нет ясного мерила! Мой кузен Michel – Михайла Лунин, вы, быть может, о нем слышали… человек чести, прекрасный человек! я его люблю, как родного брата, – он вызывал к барьеру за неловкое слово, за косой взгляд, почитая свою честь затронутой. А вот Никита живет совершенно иначе – он не обращает внимания на всякие пустяки и не ищет стычек…
– Я был бы тебе весьма обязан, если б ты мне позволил рекомендоваться самому, – заметил Никита.
– Однако же порой пренебречь этими пустяками – значит попасть в неприятнейшее положение, – произнес Владимир Горяинов. – Еще трусом назовут.
Перейдя в гостиную, заговорили о дуэлях. Никита горячо утверждал, что допускать сомнений в своей порядочности не следует, но, однако же, дурно опускаться до неразборчивого бретерства и ездить на дуэли, как в собрание, для развлечения. Алексей Горяинов-сын возражал, что всякие «мальчишки», штатские особенно, привыкли видеть в отказах от дуэли слабость, а потому «никакого уважения не будет». Горяинов-старший порывался поведать о давнишней своей дуэли с поручиком Несвицким из-за какой-то m-lle Рамон, но был в самом начале остановлен Матреной Ивановной. Артамон сперва поддержал Никиту, а потом сам признался, что в четырнадцатом году, в Париже, в одном небольшом собрании, чуть не вызвал своего сослуживца переведаться на саблях из-за того, что тот залил ему мундир вином. Иными словами, в гостиной было весело.
Артамон более уж не возобновлял разговора о совершенстве, но рядом с Верой Алексеевной, видимо, чувствовал себя покойнее и не боялся испортить впечатления. Впрочем, слушать его было занятно; окружающие смеялись не умолкая. Дар наблюдательности у него был развит сильно: он очень верно, на смеси французского с немецким, представил ссору эльзасских крестьян, потом еврея-часовщика, потом принялся рассказывать, как во Франции ловят певчих птиц. «Я в каком-то героическом рассказе вычитал – изображено, как соловей поет: „Fier, fier, osez, osez[3]“. По-моему, так это нарочно выдумано. Вера Алексеевна, а по-вашему, на что похоже? У нас няня говорила, соловей поет: „Чего надо, старичок, чего надо, старичок?“ – а бонна по-другому: „Je t’aime, je t’aime, toi, toi![4]“».
Матрена Ивановна слушала разговоры молодежи и благосклонно улыбалась.
Возвращаясь от Горяиновых, Артамон зазвал Никиту ночевать к себе (брат Александр Захарович куда-то зван был в гости). Ему не терпелось узнать, какое кузен составил мнение о нем, да заодно и проверить свое впечатление.
– Ну что, Никита, прошел я испытание?
Никита смерил родственника задумчивым взглядом.
– Ты, кажется, искренен и умеешь заражать… думаю, ты можешь быть нам весьма полезен. Однако ж каковы провинциалы! глупы как пробки. Все без исключений, даже и молодые. Пожалуй, дальше ездить к ним – только время терять. Закормят, заласкают и всё смотрят, как бараны. Ты там хорошо сказал, про честь выше присяги… а им и это как с гуся вода! Пожалуй, только в конце тон немного испортил, когда пустился в любезности, а так с отличной стороны себя выказал.
– Как по-твоему, я ерунды не наврал?
– Пустое…
– Ну, может быть, не ерунды, а что-нибудь такое неловкое.
– Это когда ты мелким бесом разливался? Перед той… перед старшей?
– Перед Верой Алексеевной.
– Старая дева…
– Вера Алексеевна и в сорок будет хороша! – обиделся Артамон.
Никита рассмеялся:
– Ну, Артамон, жди теперь, покуда ей стукнет сорок! Не знаю, право, если и сболтнул чего, так не все ли тебе равно? Будешь сегодня у наших?
– Буду.
– Рассказать, как ты перед барышней соловья изображал, так ведь животики надорвут.
Артамон сорвался с места:
– Никита, ну вот это уж будет свинство!.. Не вздумай, не то я с тобой вовсе рассорюсь. Черт знает что… имей совесть, в конце концов!
– Убедил, убедил, не шуми.
Спустя два дня Сергей Горяинов спросил у Артамона:
– Ты, говорят, был у моих? Что ж, старики пригласили бывать?
– Пригласили, – сдержанно ответил Артамон, умолчав, что бывать его пригласили не только «старики», но и Вера Алексеевна, которая на прощанье подала ему маленькую нежную руку и с ласковой улыбкой сказала: «Мы принимаем по четвергам».
Правда, при этих словах, от которых вдруг ухнуло сердце, был Никита. Значит, приглашение адресовалось и ему…
– Будем вместе ездить, всё веселей, – продолжал Горяинов. – Совсем манкировать как-то неловко. Вечера, признаться, у отца прескучные – всё старики-чиновники да разные тетушки… хорошо еще, если Володя друзей приведет.
– A propos[5]… – Артамон вдруг замялся. – Как так вышло, Сережа, что Вера Алексеевна, при ее внешних и умственных качествах, до сих пор не замужем?
Сергей поморщился:
– Тут, понимаешь, такое дело… в двенадцатом году у ней жениха убили при Бородине – ну, не то чтобы жениха, предложения-то он сделать и не успел, но все-таки. А в тринадцатом погиб брат Саша – видал небось портрет? Сестрица три года носила траур, думала даже в монастырь идти. Время-то и ушло… уж двадцать семь стукнуло! – безжалостно добавил он.
Любинька и Сашенька Горяиновы не дождались в наступивший четверг своего «Чайлд Гарольда» – так они между собою прозвали Никиту Муравьева. Они разочарованно вздохнули, увидав, что «тот, другой» (то есть Артамон) приехал один. С досады, что в прошлый раз он почти не обратил на них внимания, они пришли к мнению, что Артамон Захарович – самый обыкновенный «армейский», каких много бывало в доме. Кроме Артамона Сергей привел с собой троих приятелей, но в тех не было никакой новизны и тем более загадки. Резвая Сашенька, выбежав в переднюю и застав там Артамона перед зеркалом, громко фыркнула и упорхнула.
– Наводи красоту, наводи… – Сергей зевнул. – Все равно ни одной хорошенькой не будет.
– Корнет, ты несправедлив к своим сестрам.
– За косы их дергал, а вот на́-поди – писаные красавицы… Тебе которая больше нравится, Любинька или Сашенька? – с усмешкой спросил Сергей.
В гостиной до их появления было малолюдно. Матрена Ивановна, в чепце и шали, другая пожилая дама и незнакомый офицер сидели за картами, два чиновника в вицмундирах благодушествовали, расположившись в креслах подле хозяина. Любинька, Сашенька и еще одна девица, явно скучая, то перебирали клавиши рояля, то принимались листать альбом. Вера Алексеевна сидела в эркере с вышиванием, и Артамон, обойдя гостиную, подсел к ней. Прочая молодежь затеснилась вокруг рояля, и Любинька в четыре руки с одним из гостей, прапорщиком Белецким, заиграла «Битву под Прагой».
– А что, ядро из пушки верно летит с такой силой, что не спасешься? – спросила Сашенька, когда пьеса была окончена. Все взгляды обратились на молодых военных, девицы приготовились слушать.
– Говорят, в Смоленском сражении французский батальон потерял целый ряд в своем подразделении от одного-единственного ядра, – важно отвечал Белецкой. – А что ж, и ничего удивительного. Ядро имеет необыкновенную силу даже на земле. Я сам видел, как катившимся ядром ударило солдата так, что тот умер от ушиба. Впрочем, тут ведь кому как повезет. Одному нашему поручику ударило осколком в офицерский знак, прямо в середку, и не пробило, только вогнуло. Не рана, а царапина, пустяк.
– Страшно!
– Ничего… мы ядрам не кланялись. – Белецкой выразительно выпятил грудь. – Бывало, новичка даже осадят: «Чего зазря поклоны бьешь?» Если перелетит через головы – махнем вдогонку и скажем: «Привет нашим». А однажды, помню, сидим мы у костерка под сосной и никому за дровами идти неохота. Тут он как выпалит… солдаты, знаете, никогда не говорят «враг» или «неприятель», а всё он. Нас щепками обдало… глядим, вся верхушка сосны размолота. Вот, стало быть, и дрова.
– Вы тоже воевали, Артамон Захарович? – Вера Алексеевна, сидя на своем месте, на мгновение подняла глаза от вышивки и тут же опустила голову – смотреть гостю в лицо было отчего-то неловко.
– Да, Вера Алексеевна. В двенадцатом году в Валахии начинал, у Чичагова… вот при Бородине не был, не довелось.
Артамон Захарович вдруг оборвал фразу, словно ему не хватило дыхания.
– Белецкой, кажется, тоже не был. Он любит рассказывать про войну… а сестры любят слушать. Скажите, Артамон Захарович… в его рассказах есть правда? Нет, – прервала она сама себя. – Я не то хотела спросить, я не подозреваю Белецкого во лжи. В самом ли деле война похожа на героические рассказы?
Артамон шевельнул губами, словно намереваясь что-то сказать, может быть, даже и героическое, но потом молча покачал головой.
– Мой брат Александр погиб при Лютцене. Мой… – Вера Алексеевна вновь сосредоточилась на лепестке лилии, которую вышивала. – Мой близкий друг – при Бородине.
– Вера Алексеевна, я…
Казалось, Артамон хотел выразить соболезнование, опоздавшее на пять лет. Вера Алексеевна удивленно посмотрела на него. Как ни странно, громкий голос Белецкого вдруг сделался почти не слышным, совсем далеким… слышно только было, как Любинька разбирала новую пьесу. Чуть прозвенят первые такты мелодии, оборвутся на самой высокой ноте, и вновь с начала.
Ей удалось удержаться от слез. Вера Алексеевна подняла голову, чтобы взглянуть на портрет покойного брата, – и удивилась перемене в наружности Артамона Захаровича. В начале разговора он испугал ее своей бледностью, говорил словно через силу, и она боялась, что он нездоров или, быть может, получил горестное известие. Но сейчас его лицо словно ожило, и глаза стали ясными, как при первой встрече.
– Вера Алексеевна… – начал он и снова оборвался, словно хотел сказать что-то очень сложное, почти невообразимое. Она поощрила взглядом: «Говорите, можно». Тогда Артамон осмелился:
– Подарите мне вашу вышивку, когда закончите.
– Да я уж и закончила, – ответила она и вынула из рамки небольшую прямоугольную канву. – Из этого можно закладку сделать. Возьмите.
Он улыбнулся – радостно, как ребенок, – тихонько взял вышивку, с минуту молча, с необыкновенной нежностью во взгляде, рассматривал ее, а затем осторожно убрал в карман.
Глава 2
– Князь Сергей пишет – в западных губерниях неспокойно, крестьяне волнуются… чего ждать, непонятно. Быть может, что и полного безначалия.
Никита говорил горько, вид у него был усталый, под глазами залегли тени… Артамон не в первый раз с удивлением наблюдал воочию, как тяжело даются иным серьезные раздумья и труды «на благо общества». О чем бы он сам ни думал – о том, что изменилось в России за время его трехлетнего пребывания во Франции, или о том, как жить дальше, стараясь быть полезным, во исполнение данного слова, или о возможных подвигах в духе римских времен, – ему было весело и легко от близости героев, о которых до сих пор он только читал. Никиту же вечно жгли и мучили какие-то сомнения… Артамон тогда впервые задумался: может быть, Никита и не хочет подвига, может быть, философичному кузену достаточно того, что он истязает планами и фантазиями разум, не решаясь подвергнуть риску плоть? Значит, дело за тем, кто не побоится рискнуть, дело за исполнителем…
Пожалуй, с самых ранних пор, с того дня, когда в детстве впервые рассказали ему о добродетелях Древнего Рима, слово «подвиг» неразрывно слилось в сознании Артамона со словами «родина» и «благо». В Москве, в кругу родичей и друзей, в детской игре в республику Чока, эти слова окончательно наполнились светом и смыслом. В глазах Никиты, Сережи, Матвея, Вани Якушкина, Саши Грибоедова, братьев Перовских видел он этот свет и этот смысл, который все они понимали одинаково. Какое счастье, когда дружба еще не знает разночтений!
На войне была смелость, были заслуги, геройство – но подвига с самоуничтожением и жертвой, того подвига, о котором сладко и страшно мечталось с детства, пожалуй что и не было…
В тот день на квартире у Артамона, где, кроме него, Никиты да Александра Николаевича, никого не было, разговор шел уже без обиняков.
– Я совсем не знаю, что было здесь в эти три года, – признался Артамон. – И чем вы жили в это время, тоже не знаю. Ты рассказываешь – и я понимаю, что в юности не знал и не видел ничего. До недавних пор я как будто спал. Мой отец добряк и хлебосол, каких много, высокие материи его не волнуют, рядом с ним я был надежно огражден от любых тяжелых впечатлений, а вы меня словно будите – будите и тревожите, говорите: открой глаза, посмотри…
– Злые, неумные, трусливые существа у власти. – Никита помолчал, устремив свои большие печальные глаза за окно, где желтел и осыпался старый клен. – Все заняты только одним – как бы сохранить свое место и наворовать побольше денег, и так снизу доверху. До самого верха… А если и вздумают совершить благое дело, то выходит черт знает что, потому что everything is rotten in the state of Denmark[6]. Князь Сергей пишет – императорская фамилия намерена, в случае если помещики воспротивятся указу об освобождении крестьян, бежать в Польшу и уж оттуда, из Варшавы, прислать указ. Это как?! Государь, намереваясь сделать добрый поступок, бежит из своей страны, трусливо, как изменник…
– Это подло, – громко сказал Артамон, и эхом как будто отозвалась вся комната.
– Подло, ты говоришь… и спрашиваешь, какова теперь российская жизнь, – произнес Александр Николаевич. – Суди же сам, какова она, если самодержец подает такой пример. Офицеры занимаются пьянством и развратом – ты не поверишь, как я рад, что ты побесился, а к ним не пристал. Солдаты забиты до полного отупения. Какой разительный упадок за пять лет! Чиновники развращены, простой народ доведен, кажется, до такого состояния, что и во Франции тридцать лет назад не видали…
– Какие надежды были пять лет назад! – Никита в отчаянии стукнул кулаком по столу. – И вот опять болото. Артамон, понимаешь ты, я не могу так, не могу! Не могу барахтаться в кислом болоте, помня еще воздух свободы! Ведь казалось, всё можно, только люби Бога и будь справедлив; ведь мы своими глазами видели, как это бывает, видели людей счастливых, вольных, взыскующих… но любое искание гаснет там, где нет свободы дышать! И я не могу и не желаю быть тепел или холоден, не желаю и отказываюсь!
Он помолчал, прислонившись лбом к стеклу, потом тихо сказал:
– Горько мне и больно… прости. Странно тебе, что я так раскричался?
– Нет, что ты, Никита. Говори, ради Бога, никто и никогда со мной так не говорил.
Никита пристально взглянул на него… У Артамона разгорелись глаза, как у четырнадцатилетнего мальчика, он сидел на самом краешке кресла, словно вот-вот был готов сорваться с места. Прежде чем Никита успел произнести хоть слово, Артамон заговорил сам – взволнованно и хрипло:
– Помнишь, Сережа как-то сказал – «золото, огнем очищенное»? Не знаю, откуда он это взял… но ведь хорошо. Ведь так?
Никита удивленно взглянул на кузена.
– Да… пожалуй.
– Так послушай… – Артамон подошел к окну и встал рядом, повернувшись, чтобы видеть Александра Николаевича. – Если будет вам нужен человек, готовый порешить разом… проще сказать, готовый на всё… ты знаешь, где его сыскать. Я готов на такую жертву.
– Да ведь ты не только свою, ты и чужую жизнь в жертву принесешь, – слегка улыбнувшись, заметил Александр Николаевич. – Ты в этом отдаешь ли себе отчет?
– Что ж, я готов… ведь я знаю, вы об этом тоже думаете – ты рассказывал про Якушкина… Так не довольно ли думать, не пора ли делать? Никита, Никита, я знаю, ты смеяться будешь… – Артамон стремительно заходил по комнате. – Скажешь: в обществе без году неделя, а уже с такими прожектами… Я знаю, знаю, что примкнул к вам совсем недавно, многого еще не понимаю, и вы, в конце концов, имеете право мне не вполне доверять, но – братья! – может быть, это сама судьба распорядилась? Ведь я не боюсь, совершенно не боюсь…
– Да я не сомневаюсь, что ты не боишься.
Артамон крепко стиснул руку кузена.
– Никита, дай мне слово… я не шучу!.. дай мне слово, что, как только вы решитесь, ты непременно дашь мне знать.
– Погоди ты, Артамон… – Тот ласково, но решительно усадил родича обратно в кресло. – Если вправду хочешь быть с нами, научись владеть собой. Ну, куда это годится – действовать впопыхах, как попало. Ты хотя бы представляешь себе, как это?
– Отчего же не представляю… и до нас бывали примеры. Кинжал, мне думается, верней всего. И сделать это надо непременно публично, например на бале. Кажется, и Jean Якушкин так говорил. Вы сами сказали: дурно таиться, затевая великие дела. – Артамон, говоря, переводил глаза с одного кузена на другого, словно и их приглашая вообразить те картины, которые вставали перед ним. – Пусть все знают, что это справедливый суд, возмездие… нет такого гражданина, который не имел бы права судить!
– Archange de la mort[7]… Не люблю Сен-Жюста. Террор и гильотина – именно то, чего в России допускать нельзя.
– Бог с ним, с Сен-Жюстом… так, к слову пришлось. Так что же, Никита, обещаешь? Как только вы решитесь действовать, хоть бы и в самое ближайшее время, я буду всецело к вашим услугам. Чем скорее, тем лучше…
Кузены переглянулись… им как будто стало неловко.
– А я тебе еще раз говорю, что такие дела не делаются наспех, – терпеливо повторил Никита, словно уговаривая разошедшегося ребенка. – Нанести решительный удар нетрудно – а что потом? Об этом ты подумал?
– Потом и видно будет.
Никита поднялся.
– Ты и сам, Артамон, когда успокоишься, возьмешь свой вызов обратно.
– Отчего же? – резко спросил тот. – Александр, а ты что скажешь? Ведь я же знаю, ты сам предложил бросать жребий, чтоб узнать, кому достанется это право, и без всякого жребия себя предложили Якушкин и Шаховской – мне рассказывал Матвей. Или вы мне доверяете гораздо меньше, чем им? Отчего? Ты меня извини, Никита, но, может быть… как бы это сказать… тебе самому решительности недостает?
Тот вскинулся, как от удара.
– Ты во мне не сомневайся, пожалуйста! Если будет надо, я сам возьму кинжал или пистолет. У меня рука не дрогнет!
Александр Николаевич вздохнул.
– Вот ты уж сразу и обиделся, cousin… Вызов твой делает тебе честь, и мы с Никитой не забудем о нем, когда понадобятся люди решительные. Но пойми, Артамон, одну вещь: безрассудно и невозможно предпринимать такой шаг при самом начале общества, когда ничего еще не готово. А потому смирись… и жди.
Проводив кузенов, Артамон, не в силах успокоиться, вытащил с полки книжку наугад и бросился в кресло. Книжка оказалась – «Дева озера» в немецком переводе. Артамон открыл, где выпало, пробежал взглядом страницу.
Я рыцарь твой! – он деве говорил.
Он отложил книгу и задумался…
«Ведь не может же Вера Алексеевна полюбить не героя». Артамон подумал это – и сам испугался. «Стало быть, я люблю ее? Если рядом с ней мне то холодно, то жарко, то хорошо, то страшно, если я готов ради нее на подвиг, даже на смерть, на ужасную жертву… стало быть, я ее люблю? Боже мой, и двух недель не прошло, а мы понимаем друг друга с полуслова. При последней встрече, казалось, ей довольно было взглянуть на меня, чтоб прочесть мои мысли. Господи, неужели так бывает? Ведь я люблю ее?»
– Да, – вслух ответил он сам себе и от нахлынувшего вдруг счастья рассмеялся в пустой комнате, глядя в окно. И, вспомнив, заложил страницу вышитой закладкой с белой лилией – подарком Веры Алексеевны.
Артамон продолжал бывать на четвергах у Горяиновых всю зиму. Алексей Алексеевич и Матрена Ивановна встречали его с понимающей, хоть и слегка встревоженной, улыбкой. Сашенька и Любинька глядели недоуменно и обиженно, уязвленные тем, что молодой кавалергард обратил внимание не на них, а на старшую сестру. Любинька платила Артамону исключительной холодностью, а Сашенька краснела всякий раз, когда он случайно взглядывал в ее сторону. Артамон, впрочем, ничего не замечал, ни холодности, ни румянца – даже если бы сестры ударили в литавры, он бы и то, пожалуй, удостоил их лишь рассеянным взглядом.
Никого, кроме Веры Алексеевны, для него не существовало. Быть с нею рядом, разговаривать, слушать, видеть ее, притрагиваться к руке при встрече и прощании стало для него жизненно необходимо. Сергею Горяинову, отпустившему как-то чересчур вольный намек, Артамон пригрозил рассориться навеки и умолил молчать. Товарищеских насмешек, а пуще того сальностей он бы не выдержал… немыслимо было и подумать о том, чтобы вынести свою любовь на их суд. «Влюбился, как мальчишка юнкер, – порой поддразнивал он сам себя и тут же оговаривался: – Вот и нет, мальчишка влюбился бы и остыл через неделю, и говорил бы всё о себе да о себе… влюбленные юнцы вообще страшные эгоисты!» – прибавлял он.