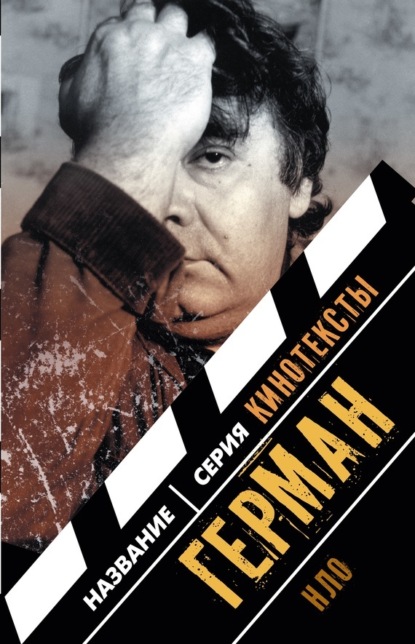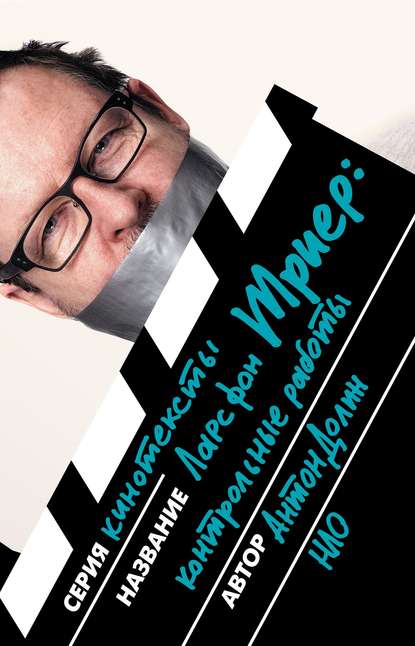Полная версия
Постдок-2: Игровое/неигровое
Рабочий возвращается в цех и просит продолжать репетицию. Следующая сцена – речь Мити на суде, фрагмент текста о том, что он невиновен в смерти отца. Актер в роли Мити, отыгравший свою сцену, сомневается в подлинности «настоящей» трагедии, случившейся на заводе: «Если б у меня умер сын, – говорит он партнеру, – я бы не смотрел эту пьесу».
Актриса в роли Грушеньки выходит покурить во двор и случайно становится свидетельницей сцены рабочего с женой. «Ты пьяный!» – «Они играют для меня».
Рабочий наблюдает следующий фрагмент репетиции – сцену Снегирева после смерти Илюшечки и монолог о том, что «Бога нет». Рабочий в испарине, ему надо прийти в себя. Эпизод в душевой, где актер, играющий Митю, вступает с ним в диалог, провоцируя внесценическое развитие действия. «У вас умер ребенок?» – «Да». – «Если б у меня умер ребенок, я не смотрел бы на клоунов из Праги».
Рабочий возвращается в цех. Застает финал сцены, в которой Алеша сообщает Ивану, что Смердяков повесился.
Актер, игравший Снегирева, подает – после окончания репетиций (сцена объявления приговора Дмитрию и его речи о том, что он не убивал отца) – актерам и зрителям, заводским рабочим, водку. Кажется, что таков и финал спектакля. «В зале» готовятся отметить завершение прогона. Но вдруг актер в роли Алеши произносит монолог об Илюшечке Снегиреве. Еще один финал спектакля кажется импровизацией. Празднование окончания репетиций превращается в поминки по литературному герою и по реальному, то есть кинематографическому, и внесценическому.
«За сценой» раздается выстрел. Актеры выходят с завода. На земле – застрелившийся рабочий. Актеры удаляются по дороге. Самого спектакля на фестивале «Ближе к жизни» и в этом кинопространстве, предъявившем непредвиденный поворот событий, возможно, не будет. Жизнь или, можно сказать, парадокументальный сюжет внесли свои коррективы.
Зеленка строит фильм, соблюдая классическое развитие драматургии. С одной стороны, он рифмует два драматических события: романное и внесценическое, предлагая вроде бы утешающую (для протагониста «реальной» трагедии) иллюзию зрелища. С другой стороны, он продлевает жизнь рабочего ровно настолько, сколько будет длиться игра (на репетициях спектакля «Карамазовы»). Так в чеховской «Чайке» закончилась партия (в лото) – прекратилась жизнь (застрелился за сценой Треплев). Смерть (самоубийство) рабочего за кадром обнаружится актерами только после прогона спектакля.
Размывание границ между «сценой и залом» создает подвижную экранную реальность этих «Карамазовых». Реальность кинематографического пространства, в котором игровые площадки сопряжены с реальным пространством завода, купленного индийским магнатом, с потухшими или все еще действующими металлургическими цехами, где в 80‐е (сообщает рабочий актеру, играющему Ивана Карамазова) выступал Лех Валенса.
Подобно тому как исторический и документальный «спектакль» («мы пережили немцев, русских, переживем и индийцев», – комментирует постсоциалистическую реальность польский рабочий) резонирует тут личной трагедии этого рабочего, другие рабочие забредают в репетиционный цех подивиться накаленным страстям артистов в ролях героев Достоевского.
«Установив дистанцию между персонажами и актерами, Зеленка актуализировал проблематику романа в жанре документальной драмы: неприспособленность фабричных декораций, современный облик чешских актеров, играющих безудержных русских героев романа ‹…› перепроживаются в этом фильме сквозь частную историю заурядного человека. И – в щемящих эпизодах. На улице, например, когда актриса, игравшая Грушеньку, делает вид, что не видит, как рабочий после известия о смерти сына обнимает обезумевшую жену. Или когда одна из актрис случайно находит в ящике рабочего, потерявшего сына, фотографии его с мальчиком, а рядом – патроны. Документальная фактура „Карамазовых“ рождается в диалоге с романом. И на его полях – во время прерванных репетиций спектакля. „Опечатки“ кинематографической реальности становятся драматургическим эквивалентом реальности сценической, лишенной в режиссуре Зеленки примет формального театрального эксперимента, зато радикализируются в концептуальном эпилоге фильма ‹…› Участников эпизода – актеров, режиссера спектакля и зрителей – объединяет трапеза в зале. Блины и водка, упомянутые в монологе Алеши, „превращаются“ в хлеб и вино у чешских артистов и польских хозяев фестиваля ‹…› Отрешенность камеры приглушает торжество евхаристии»[26].
Зеленка, автор игровых и документальных фильмов, решился на эксперимент, в котором реализовал свои (и Достоевского) диалогические интересы. Документальным материалом этого фильма стали съемки театральных репетиций, сохранившие на пленке (на память) следы знаменитого чешского спектакля, идущего и по сей день. А игровым – внесценическая история безымянного рабочего и завода, отчасти функционирующего, отчасти ставшего временной площадкой для модных фестивалей.
Схлестнув внесценические эпизоды (с участием актеров в ролях актеров и реальных рабочих завода) с реализмом театральных репетиций, Зеленка задокументировал пограничное пространство, в котором безусловно только движение из одной условности в другую. И – наоборот.
Так, Зеленка и Херманис – каждый по-своему – засвидетельствовали исторический и художественный промежуток: один – между театром, кино и историей польского завода; другой – между монологами актеров и текстом интервью, которые эти актеры записали у своих прототипов.
После травмы
Важно не то, что они мне показывают, а то, что они скрывают от меня, в особенности то, что они не подозревают того, кто в них.
Робер БрессонКороткометражный фильм Бакура Бакурадзе (вместе с Дмитрием Мамулия) именовался «Москва». «Шультес» – двухчасовой его дебют – назван фамилией главного героя, проживающего в Москве и постоянно присутствующего в кадре. Очевидно, что человек в городе – центральный метакинематографический – мотив, интересующий режиссера, которого по недоразумению записывают в парадокументалисты, хотя он работает в промежуточном или пограничном пространстве (и времени действия его фильмов).
В первом фильме таджикские гастарбайтеры, братья с матерью, стерегущей в общаге семейный очаг, маялись в равнодушной столице, униженные неуплатой за труд на стройке. Их свободное время поглощал телевизор – доступное «окно в мир», ограниченный работой, едой, сном и поездками в транспорте. В том «окне» пульсировала жизнь, мелькали красивые витрины и такие же, как они, приезжие, примиряющие одних бедных с другими – с «Рокко и его братьями».
Во втором фильме персонаж с чуждой на русский слух, но всемирно отзывчивой фамилией Шультес, с лицом нетрафаретного рыжего грузина Гелы Читава, означающего как бы фронтир между югом и севером, существовал на границе двух ипостасей: бывшего спортсмена – настоящего карманника.
Москва, как любой мегаполис, в этом фильме снималась отстраненно и точно: в обычной квартире, в нейтральной больнице, в автосервисе, метро, кафе, торговом центре, такси, на вещевом рынке. Невыразительное, однако запоминающееся лицо непрофессионального артиста срифмовано здесь с образом стертого и до детских желез знакомого города. Но такая Москва до сих пор была неизвестна молодым российским режиссерам, уверенным, что съемки в провинции есть простейший способ приблизиться к «простым людям, к реальности». Будто место красит человека (и режиссера), а не наоборот. Будто это и есть алиби неучастия в столичном мейнстриме. Но «спецэффект» интеллигентского упования на провинцию – все-таки утешительный стереотип поверхностного или даже маргинального мышления. Хотя и тут, конечно, рецептов нет.
Казалось бы, история «Шультеса» могла случиться в Берлине или в Буэнос-Айресе. Однако снималась она в Москве, и на экране запечатлелась внутренняя сущность именно нашей реальности, сотканной, озвученной из примет ad marginem (улицы Ленина в Мытищах, москвички с интернациональной внешностью, лопочущей на эскалаторе по-французски, ритуальных услуг, предлагающих гроб с кодовым замком, из телепрограммы, сплошь составленной из сериалов, криминальных новостей и российских «вестей»), отсылающих в сердцевину реального. Это реальное контрастирует с нетелевизионной реальностью, абсолютно конкретной и вместе с тем отчужденной. Без лишних слов, без убойной режиссуры.
Леша Шультес приостанавливает свои блуждания по городскому пространству у игровых автоматов и дома, у телевизора, который он смотрит вместе с больной матерью или один. А также везде, где воленс-ноленс оказывается: в больнице, в автосервисе, в чужой квартире. Но для него, в отличие от персонажей «Москвы», бывшего спортсмена с пробитой памятью, телевизор – это «окно» в опасное прошлое, напоминающее о себе в спортивных передачах, и в удаленное настоящее, передающее весть о взрывах на «Пушкинской». Из обоих он выпал в сверхреальное – искаженное и привычное – существование, в котором есть все: секс, ложь и видеокамера. Она найдена карманником в квартире внеочередной жертвы, которую он случайно увидел в реанимации и которую измордовал кто-то позднее и посильнее Шультеса. Здесь травма накладывается на травму (клин клином вышибается) и всплывают уже воспоминания спортсмена, отпечатанные на собственных фотографиях – где он с забинтованной головой и с другой барышней. Любовное звуковое письмо незнакомки своему возлюбленному, которое слушает Шультес, подключив камеру к телевизору, пробуждает его сверхусилие на встречу прошлого и настоящего. Но и оно свидетельствует о преградах, которые – сознательно или нет, вот в чем вопрос, – этому экс-спортсмену нереально взять, преодолеть.
Такое отчуждение удостоверяет не только этику маргинала, не только одиночество, разделенное с уличенным и взятым в дело юным карманником, живущим с бабушкой безотцовщиной, о котором Шультес заботится, которого использует, а в финале спасает, но предоставляет свободу маневров в тотальной несвободе беспамятства.
Такая вот притча. Без поддавков и без вычурности. Экзистенциальная травма, а не медицинская драма. (Поэтому я выбираю этот фильм не в ряду многочисленных опусов про амнезию, но как историю о несвидетельствуемой реальности, в которой приходится быть и жить.)
Короткая «Москва» – образчик фестивального эстетизма – была слишком правильным фильмом о чужом для чужаков городе, чтобы удивиться этим дебютом. Долгий план живописно ободранной стенки в депрессивном районе, раскатывание теста для «таджикской кухни», ухоженные цветочки в парке, политые смуглым наемным рабочим; диковинные ритуалы вроде выщипывания бровей с помощью нитки, которое проделывает старая таджичка; неизбежно красивые индустриальные пейзажи; бритоголовые скины, накаляющие (опасностью) воздух в вагоне метро близ молодого гастарбайтера с утонченным лицом, – все это демонстрировало клишированный взгляд на стильное социальное кино. Иначе говоря, на кино актуальное, для которого избраны экзотичные «паломники» (в кадре мелькала дощечка с такой надписью, приставленная к окошку с внутренней стороны салона автобуса, на котором люди приехали в «Мекку»-Москву заработать). Здесь в медленном темпе были в который раз показаны жгучие контрасты любых столиц. Никакой неопределенности, никакой загадки. E2 – E4.
Тривиальное начало было, видимо, неизбежным. Как сложится дальнейшая судьба режиссеров, должно было проясниться в единоличной партии каждого из авторов «Москвы». Первым появился космополитичный «Шультес», попавший в каннский «двухнедельник режиссеров» и сработанный на кинематографических архетипах (амнезия, опека ребенка криминальным взрослым, их сродство, тема судьбы, роковая случайность). Но европеизированная киногения «Шультеса» вопреки будто бы востребованному на фестивалях национальному по форме, интернациональному по содержанию кино – насмотренность и стилистическая скрупулезность режиссера, сюжетная загадка героя, то ли страдающего посттравматической амнезией, то ли играющего с таким диагнозом, – совсем не однозначна. Обреченность героя на манипуляции с реальностью, столь очевидная в документальном кино, проблематизирует одну из самых горячих точек российского кинематографа: разрыв связей и одновременно поиски контактов с пресловутым обыденным – предметным и смысловым миром, который не дается взгляду камеры.
Бакурадзе задумался, почему это происходит, и отказался от якобы беспроигрышных дорожек псевдодокументализма, который, как кажется, только и способен сократить расстояние (укоротить поводок) между режиссерским взглядом и близлежащей, но не записанной на медианосители реальностью. Отказался он и от дешевого декоративного эстетизма, который, отрываясь от обыденки, будто бы проникает в ее «подсознание». Или в мечты, надежды, воображение «не удовлетворенных реальностью» персонажей.
Наградив своего антигероя амнезией, условной интригующей уловкой, Бакурадзе попытался вглядеться в до конца не объяснимое – посттравматическое (включая эстетическое) – наше отношение к действительности. При этом он решился не радикализировать классические каноны европейского кино, но и не пренебрег желанием создать свою среду или даже авторский мир. «Эффект реального» выходит в «Шультесе» за пределы ускользающей реальности, как ускользают в памяти Шультеса простейшие реалии, но проявляется этот эффект в абстрактном реализме картины. Пока еще слишком старательном. Но такая попытка все равно серьезнее и глубже шокирующих выбросов на экран наших записных натуралистов.
«Тщательно заняться незначительными кадрами (без значимости)»[27]. Не знаю, специально или стихийно, но Бакурадзе последовал этой заповеди Брессона, открывающей «движение извне внутрь». Он не оставил на лице своего аматёра Гелы Читава «ничего предвзятого», добившись через «сумму механических жестов» своего карманника, ничего общего не имеющего с брессоновским, кроме больной матери, «чистой сущности» Другого. Он попытался удержать труднейшее равновесие его напряженной и бесстрастной двойственности, доходчиво смизансценированной в зеркальном отражении Шультеса в примерочной торгового центра. При этом Бакурадзе не уступил достоверности ни в типажах, ни в мизансценах, выйдя за границы и так называемого бытового (склонного к натурализму) кино, и поэтического, меченного символической образностью.
«Шультес» – шкатулка с секретом. Вопрос о беспамятстве Шультеса в фильме подвешен и в финале не разрешен. Амнезия подтверждена крошечной записной книжкой героя, с которой он сверяет адреса подельников или имена случайных партнерш по сексу, амнезия подчеркнута и вопросом Шультеса юному напарнику о своем адресе. Но диагноз позволяет пережившему травму спортсмену, хитрецу или практически мертвецу с призовыми кубками, рядом с которыми он ставит на полку – на «общей могиле» – урну с прахом своей матери, пребывать в состоянии быть и не быть. Действовать и скрытничать. Говорить правду и отключаться.
Эта неопределенность – мотор обжигающе холодного стиля, приторможенного и пластичного ритма картины, мотор впавшего в оцепенение и одновременно действенного героя, «расщепленного субъекта», у которого нарушен механизм памяти (опыта). Не случайно он удостоверяет свое настоящее в ремесле карманника. В чутком – в одно касание – контакте Другого с Чужим. И – в бытовых ритуалах: у телевизора, в игре на бильярде, на похоронах, в метро, в электричке.
«Шультес» строится на классическом конфликте сюжета и фабулы. На провокации внутренних связей травмированного сознания – упругого спортивного тела. Эти связи то налаживаются, то иссякают и в буквальном смысле, и – как латентная метафора беззащитного, безотчетного в действиях человека.
Фабула набирает обороты в истории спортсмена, свернувшего с (беговой) дорожки, вписавшегося в банду то ли после автокатастрофы, то ли после поножовщины; в истории больного с отмороженной памятью; в истории сына, который вынужден воровать, чтобы добыть больной матери лекарства, но и чтобы похоронить ее в роскошном ореховом гробу; в истории брата-солдата, которому он исправно привозит в подмосковную часть деньги, но скрывает смерть матери и вспоминает, как их в детстве на Бабушкинской (о, как важна здесь топографическая точность!) крепко избили (реплика Миши) и даже конфетку забрали (избирательная память брата Алеши).
Сюжет «Шультеса» – превратности судьбы обыкновенного человека, череда его бесконечных невосполнимых утрат, приведших к небытию наяву и к ловкости рук, а в конце концов, может быть, и к физической гибели.
«Шультес» – отчасти и диагноз современному человеку перед, а не за стеклом. Или – просто человеку, обреченному выживать в большом городе. Это «наши предки умели выбирать место для жизни», – доносится Шультесу с экрана телевизора в кабинете реаниматолога, когда-то его возродившего, ставшего другом, но за него так и не решившего: вспомнить все или забыть.
После жизни
Разные типы условности, которые задействуют режиссеры театра, игрового и неигрового кино, работающие на пограничной территории (между жанрами, видами искусства, между мифологией обыденной жизни и ее достоверностью), еще одну грань демонстрируют в творчестве португальца Педро Кошты.
В фильмах, обеспечивших ему статус культового режиссера, – «В комнате Ванды» (2000) и «Вперед, молодежь» (2006), снятых в документальной стилистике с реальными португальскими маргиналами, – он исследует кинематографическое пространство между «поэзией и правдой», натуральностью среды, которую снимает без искусственного освещения в идущих под снос лачугах, и архетипическими персонажами. Интервью трущобных наркоманов, из которых Кошта отбирал фрагменты для фильма «В комнате Ванды», предваряли съемочный период точно так же, как и репетиции с Вентурой, эмигрантом из португальской колонии Кабо-Верде, бывшим рабочим, над его мифопоэтическими монологами для фильма «Вперед, молодежь». Жак Рансьер приписал этому меланхоличному и могучему избраннику Кошты образ «возвышенного бродяги», совмещающего черты Эдипа, короля Лира и героев Джона Форда[28].
В полуразрушенном районе Фонтэнха Кошта снимает разбитых, во цвете лет, больных наркоманов, болтающих с родственниками и с товарищами по несчастью, проведшими здесь детство, юность, и – умирающих. Эти тривиальные разговоры идут под грохот бульдозера, разбивающего стены домов, из которых они вскоре переедут или где останутся погибать. Подробности «последних дней» (отсутствие денег, жажда дури, бомжи, приходящие к старым знакомцам, чтобы ненадолго притулиться; сборы передачи в тюрьму, где сидят за наркоторговлю родственники наркоманки Ванды, не встающей с постели; домашние хлопоты, ритуальные шприцы и уколы) сняты одновременно в колорите старинной живописи и репортажно, без всякого намека на эстетизацию. Портреты красивых молодых людей в духе Сурбарана; темные кадры (электричество в лачугах отключено), где копошатся изгои, с узким просветом дверного проема, за которым жарит солнце, освещая краешек улицы с лязгом бульдозера; рембрандтовская светотень, в которой просвечиваются выразительные фигуры отпетых заложников страсти, существуют на экране с ненавязчивой, но художественной достоверностью и в несымитированной естественности.
Фильм «Вперед, молодежь» переносит протагонистов и других персонажей Кошты из комнаты Ванды в новый район, где в чистом доме покоится у телевизора наркоманка, прошедшая курс реабилитации и даже родившая девочку. Этот фильм режиссер строит в иной стилистике – на контрасте между темным пространством еще не снесенных жилищ, в которых галлюцинируют наркоманы, выдавая в камеру сюрреалистические тексты своих видений перед смертью, и ослепительной квартирой Ванды. Между этими мирами фланирует безработный каменщик Вентура, напомнивший французскому философу «государя в изгнании»», которого выгнала жена, похожая на «античную фурию»[29]. Теперь Вентура надеется получить квартиру в новом районе со своими «детьми», которых он вообразил, отождествив с маргиналами из бедного района и попытавшись таким образом восполнить бесприютное одиночество, рассеять кромешную тоску. Однако никаких провокаций или жалостливых эмоций Кошта не предпринимает. И не ограничивает положение своих персонажей, мотивы их поведения социальным детерминизмом.
В фильме «В комнате Ванды» камера застывает, чтобы зафиксировать жизнь молодых наркоманов, вспоминающих прошлое, перемогающих настоящее в коротком промежутке между дозами. В фильме «Вперед, молодежь» Кошта выдвигает на передний план из этой среды мифологические фигуры Вентуры и его жены, снятой из окна квартиры с ножом в руках, и озвучившей громокипящим голосом пролог этой архаической трагедии. Или истории про Вентуру, блаженно чувствующего себя в лачуге рядом с отходящей в иной мир наркоманкой, но растерянным – в белостенной обители Ванды, с которой он, пока та без умолку тарахтит, безмолвно изживает свое бесцельно свободное время.
Внезапно Кошта переносит его в музей фонда Гульбенкяна, который строил Вентура, оставляет у белой стены (между портретами Рубенса и Ван Дейка) чернокожей – чуждой здесь – тенью. След, оставленный подозрительным посетителем на полу, вытрет тоже черный служитель музея, счастливый обладатель рабочего места, попросивший Вентуру «на выход». Кошта вызволяет Вентуру из музейного зала, чтобы освободить его для съемки пространных воспоминаний о первых годах эмиграции, о нынешних переживаниях, о том, как сорвался он тут, неподалеку, со строительных лесов.
Этическое – эстетическое, мифологическое и документальное, обыденная речь и литературная ведут в этих фильмах равноправный и повседневный, нестилизованный и невыспренний диалог. А картина «Вперед, молодежь» ритмизирована к тому же и фрагментами письма, точнее, разными версиями письма Вентуры возлюбленной (оставшейся в Африке), в котором он обещает, рассказав о своей непогасшей любви, послать пачки сигарет, платья, цветы. Это письмо Вентура опробует на слух, на точность слов и пробелов. В этом письме «Педро Кошта соединил два разных источника: настоящие письма эмигрантов, напоминающие те, что в свое время он разносил как почтальон, тем самым получив доступ в Фонтэнху, и – письмо поэта, одно из последних писем, отправленных Робером Десносом из лагеря»[30].
Сопричастность и дистанция по отношению к живым, мертвым, потерянным или растерянным душам, хрупкая искусность статичной внимательной камеры, длинные планы, достоинство чужаков – местных маргиналов или африканских эмигрантов, выразительность одновременно живописного (так воспринимаются кадры, снятые в естественном свете) и аскетичного стиля, лишенного специальных приемов, определяют экстерриториальную режиссуру Кошты. Его требовательный кастинг проходят любители, с которыми он беседует месяцами до съемок, а роль вымысла в его фильмах принадлежит архаической (словно из античной трагедии) или поэтической речи реальных людей. Простых протагонистов с невыдуманной биографией, незавидной судьбой, величие которой, несмотря на утрату дома и близких, обеспечено силой воображения этих же героев. А возможность снимать их в повседневном бытии – доверием к режиссеру.
С 2008 году в Центре Помпиду показывают циклы документальных фильмов. Программу под названием «Критический взгляд» составляют известные критики или историки кино. В 2010‐м свою программу сделал Бернар Эйзеншиц, историк кино, переводчик, отборщик, режиссер и даже актер. Открывая показы, он предуведомил: «В моем словаре нет двух слов: „документальное“ и „реальное“. Я никогда не понимал, что они означают. Граница между вымышленным и невымышленным всегда казалась мне крайне размытой. ‹…› я видел очень много фильмов, которые нельзя отнести ни к игровому, ни к документальному кино и которые остаются для меня абсолютной загадкой. Они образуют то, что представляется мне самым плодотворным подходом к кинематографу»[31]. Впрочем, споры о так называемой документальности «документального кино» существовали всегда и не утихают до сих пор.
Роберта Флаэрти называли одновременно «отцом документального кино» и «инсценировщиком реальности». «Нанук с севера» – игровой фильм с реальным Нануком в главной роли. Его реплики писал режиссер, репетируя с непрофессиональными актерами, реконструируя повседневную реальность методом погружения и наблюдения. Ценность документа, точнее, кинодокумента изначально была связана с восприятием, эту ценность удостоверяющим. «Я не уверен в необходимости относить его фильмы к „документальным“ или „игровым“. Это, может быть, нужно лишь для составления каталогов. Важен вопрос, как воздействуют эти фильмы на зрителя…»[32] Таким образом, разделение режиссеров на документалистов и игровиков – сугубо функциональное, можно было бы сказать, университетское и, в сущности, раздутое. Не только потому, что в истории кино множество режиссеров запросто эту границу нарушали, но потому, что восприятие самого понятия документального менялось на протяжении всего прошлого столетия.
Впервые снимая свои классические фильмы на натуре, Флаэрти использовал камеру-соучастницу, находящуюся среди его героев до тех пор, пока они к ней не привыкнут, документируя «только то, что хочет автор»[33]. Иное отношение к камере предпочел, как известно, Дзига Вертов, для которого глаз кинокамеры был новым средством – дополнительным инструментом ви́дения мира, а следовательно, кинематографической действительности. «Дзига Вертов пускал в ход свою камеру и ждал, что произойдет что-то. Флаэрти пускал ее в ход и ждал, что произойдет то, что он ждал. Вертов изобрел метод, который состоит в том, чтобы снимать людей без их ведома, показывая им в это время другое зрелище. Например, в „Человеке с киноаппаратом“ Вертов показывает детей, очарованных фокусником, он снимает не фокусника, а детей. Вертов не задумывал это заранее. Флаэрти же, снимая „Моану“, заснял тысячи метров пленки, чтобы запечатлеть взгляд ‹…› человека, которому делают татуировку»[34]. Доверяя камере больше, чем собственному зрению, Флаэрти только после съемок «по-настоящему работал над фильмом»[35]. Как и Вертов – при совершенно противоположном, казалось бы, отношении к монтажу.