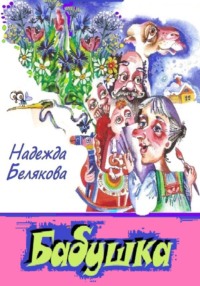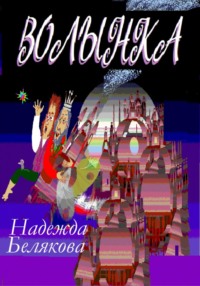Полная версия
Кузнецкий мост и Маргарита
Но теперь дом был защищен и жизнь в нем текла дальше меж своих омутов-водоворотов.
Война отняла жизни ее сыновей. Сначала Федора, потом 19-ти летнего Сергея, потом и Колю забрала, отдав вместо сыновей похоронки. Когда пришли в их деревню с предупреждением, что нужно им бежать и скрываться за каналом, потому что движутся на них немцы и пекло тут будет страшное. Что теснят нас фашисты и даже Рогачево нашей армии не удержать. Обнялись Анна Васильевна с Осипом Ивановичем и даже не обсуждая, одно решение было у них на двоих: погибнуть, раз так на роду написано, так вместе в родном доме. А никуда не бежать, не скитаться. И действительно, жесточайшие бои шли и за Рогачево, и за каждую деревеньку. Сколько народу полегло, деревни фашисты все вокруг спалили, людей поубивали. Только их родную деревню наши не сдали. Не вошли фашисты в их деревню, не были они под фашистами, хотя совсем рядом такие жестокие бои полыхали. Остались они старики – вдвоем в своем доме. Дочка Нюша жила отдельно, совсем рядом – в соседнем доме. С мужем и сыном Шурой – двоюродным братом Риты. И все прожитые ими вместе годы невзгод и радостей Анна Васильевна смотрела на мужа только с гордостью и любовью.
Хорошо, что этот ужас осталось позади, наши войска вышибли фашистов, отбросили и от Рогачево, и от Дмитрова. Но война продолжалась, и жизнь в горе и в беде, но теплилась.
Анна Васильевна сидела с рукоделием за столом и слушала мужа, то ли наслаждаясь звуком его голоса, то ли самими газетным новостями, слетающими с его губ. И Осип Иванович читал вслух:
– В 1944 году, еще во время войны, правительством было принято решение создать ОДМО – Общесоюзный Дом Моделей в Москве.
– Ух ты! Фу, ты-ну-ты! Это, что такое и с чём едят?! – изумилась Анна Васильевна, но дед продолжал:
– Наши отечественные художники-модельеры, не теряя и в годы войны яркости творческого накала, который они сохранили и в это тяжелое время испытаний, будут востребованы нашей страной и после войны в мирные будни. И им предстоит создавать ОДМО, то есть – Общесоюзный Дом Моделей.
В этой деятельности им предстоит обобщить исторический путь развития Моды в России, соединить его в единое целое с деятельностью, творческими направлениями и принципами организации работы ведущих дореволюционных Домов Моды и современных знаменитых Домов Высокой Моды, в предчувствии наступающего светлого мирного дня нашей победы. Представляющий новый и еще не прожитый образ жизни, такой желанной и долгожданный за все годы этой войны.
Прочитав это, дед снял очки. Как-то уважительно сложил газету, как делал, когда намеревался сохранить газету, дорожа напечатанными в ней новостями. Задумчиво замолчал, повернувшись к окну. Тут скрипнула и открылась дверь, впустив облачко ледяного дыхания зимнего дня. Это Рита вернулась из школы, что находилась за 5 км в Синьково. Разделась, радуясь теплу дома, как-никак, а пять километров пешком ходили ребятишки из их деревни в ближайшую школу. Рита подсела рядом с дедом, дуя на свои замерзшие руки. Бабушка отправилась к печи, чтобы подогреть обед. А дед, потрепав Риту по плечу, продолжил обсуждать прочитанное с женой:
– А знаешь, мать! Всё это написанное дорогого стоит! Значит скоро войне конец! Точно тебе говорю! Это ж надо такое: война, но раз о моде приказ правительство издаёт, то – точно! Скоро конец войне! Понимаешь; Указ Правительства об Доме Моделей! Моду делать будут! Не ателье какое-нибудь, а Дом Моды! Значит точно! Точно – скоро совсем погоним мы немца! Точно погоним!
Ритуська! А я тут твой рисунок видел ты меня так ловко нарисовала. Вот тут, гляди, мать, как я похож. Что ты, Ритуська, убрала? Что ж не показала бабушке? На полях газеты, смотрю, так хорошо получается! Ну, точно – я! И бабку давай нарисуй! Можно, правда, и помоложе нарисовать! А!? Хочешь молодой быть? А, Анна?
Бабушка Анна Васильевна рассмеялась в ответ и сказала:
– Она ж только из школы! Пять километров пешком из Синькова. Поесть дай спокойно девчонке! А то все: рисовать да рисовать! Так, да ещё и «помоложе»! Аль так тебе не хороша?! А тебе чего с молодой-то делать?! А?
Анна Васильевна прожила с мужем в большой любви и с гордостью говорила: "Меня муж за всю жизнь ни разу нисколечко не обидел!"
Она годилась и любовалась им, уже лысым стариком. И сейчас, словно расцвела, рассмеялась и обняла его. Крепко поцеловала в круглую лысину, обвив руками его за шею. Давным-давно еще в царское время и она тоже училась в школе в том же селе по учебной четырехклассной системе образования, бесплатного и всеобщего обязательного для всех слоев общества. Там же учился по той же царской программе в Синьково и ее муж Осип – лет за десять до нее, поскольку был старше ее, но он всю жизнь читал и писал, потому что унаследовал строительную артель, которую создал еще в крепостное время его пра-прадед, как отхожий промысел. И потому грамота ему была нужна. А Анна Васильевна – жена его, родившая 13 человек детей, прекрасно вела хозяйство, держала домашнюю скотину и заботилась о многодетной семье и ей было не до чтения книг, и уж тем более не до правописания, потому – все полученные ею еще в царские времена знания и грамотность быстро улетучились из ее памяти. И она, простодушно отмахиваясь, словно от надоевшей мухи, всегда говорила, когда об этом заходила речь:
– Да, неграмотная я!
Но Рита, видя то, как любила Анна Васильевна слушать, как для нее читает вслух книги или газеты ее муж, пока она крутилась по хозяйству, готовила обед, мыла посуду, что-то подшивала или штопала, думала, что, слушая чтение мужа, бабушка Анна Васильевна получала удовольствие от его чтения, потому и произносила скороговоркой – «да неграмотная я!»
Анна Васильевна в эти минуты становилась осанистой и преисполненной гордости, когда Осип читал газеты односельчанам или писал им по-соседски письма, тогда Рите начинало порой казаться, что безграмотность ее бабушки произошла вовсе не от забывчивости, а от ее пристрастия к тому, с каким почтением и уважением слушают его соседи, как выразительно читает вслух ее ненаглядный муж. А проще – от любви к нему, и потому во время этих чтений она преображалась и расцветала!
Рита ушла мыть руки перед обедом. Тут дед поманил жену, чтобы «посекретничать». И прошептал ей на ушко то, что так не легко ему было сказать ей. Он, словно за поддержкой и одобрением, посмотрел на фотографии их трех сыновей. Убитых еще в 1942-ом году на войне.
Наконец решился и, крепко обняв ее, и прошептал:
– Ань! Там у тебя всё отложено: Сережино и Колюшкино. Карандаши Федора. Бумага, кисти, акварели разные. Ну, альбомы и краски их школьные. Высохли, конечно, краски-то, но – это ж акварель. Размочить можно! Новую-то краску, где ж теперь купишь? А там ещё довоенное все. Так ты – отдай! Отдай Рите! А они: мальчишечки наши, – они всегда с нами! Всегда, пока и мы живы! Они ж для нас с похоронкой не кончились! И никакая похоронка их у нас не отнимет! Ты, не серчай! Ей рисовать нужно! Талант у девчоночки есть!
Рита замерла, увидев из сеней, что дед и бабушка словно вжались друг в друга, чтобы не разрыдаться. Рита догадалась, что это об убитых на войне сыновьях они сейчас затосковали. И потому торопиться к столу не стала.
Но вот Анна Васильевна метнулась к окну, задернуть шторки и смахнуть слезы. Пошла хлопотать с обедом. Дед повыше поднял газету, не заметив, что очки остались на столе. На столе появилась тарелка горячих, дымящихся постных щей, принесенных Анной Васильевной. Рита села за стол.
И, несмотря ни на что, стала с удовольствием есть, вдыхая сытный запах наваристых щей, хотя и настороженно вслушиваясь в происходящее.
Анна Васильевна вышла, удалившись в их с дедом комнату, захлопнула дверь. Там она открыла шкаф. Поглаживая, перебирала отложенные вещи сыновей. Достала их школьные альбомы. Осторожно вырвала юношеские рисунки сына, убитого на войне в 18 лет. Потом положила их обратно в шкаф, убирая под стопку белья, прошептав:
– Сыночек мой, Коленька! Прости…
Так же поступила она и со стопкой дорогих для неё вещей в другом углу шкафа. И также вырвала, но только один листок, с неумелым, но полным искреннего восторга, портретом любимой девушки, подписанный им – «Лена».
Анна Васильевна сквозь слезы, прошептала, чуть не плача:
– Прости, Сереженька!
Рита поела и отнесла посуду, вытерла стол и разложила свои учебники и тетради. Но делать уроки не спешила, а читала деду свою книгу, подаренную цыганками, тогда, в эвакуации, когда все были живы, и весь происходящий ужас, казался страшным сном, из которого можно освободиться, проснуться, сбежав от всего нагрянувшего кошмара войны. И потому та книга из времени, когда все страшное еще не свершилось была ей особенно дорога:
– Дом моделей "Кузнецкий мост" находится в самом Центре Москвы, на улице Кузнецкий мост, которая издавна славилась своими модными магазинами. Вспоминается реплика одного из персонажей комедии Грибоедова "Горе от ума", написанной в 1825 году: "А все Кузнецкий мост и вечные французы, откуда моды к нам и вкусы!".
Кроме готового платья, на Кузнецком торговали великолепными мехами, тканями, кружевом, ювелирными украшениями – всем тем, что пленяло воображение модниц.»
Анна Васильевна вернулась в комнату. С альбомами в руках, с двумя коробочками с акварельными красками, букетиком беличьих кистей, зажатых в ее натруженной руке. Она разложила эти сокровища военного времени перед изумленной Ритой, онемевшей от радости.
В этот момент ожил и заговорил репродуктор. И на всю избу прозвучало: «От советского ИНФОРМ бюро» – и всё отошло на второй план, все стало не важным перед ожиданием сводки с фронтов, на которых решались судьбы бесчисленного множества людей, семей – таких же, как и они в это мгновение, когда решалось их право на жизнь. И потому внимание всех троих было приковано к сводкам с фронта. К голосу Левитана, дававшего каждому слушавшему надежду.
Каким ожиданием, какими надеждами были пронизаны майские дни 1945 года! Ждали! Так ждали последние сводки Информбюро, звучащие из черных тарелок репродуктора! И разве можно забыть, как после позывных на мотив песни «Широка страна моя родная» прозвучало судьбоносным голосом Юрия Левитана сообщение о взятии Берлина. И истошное, раскатистое: «Взяли!.. Берлин взяли! Победа!!!» – волной радости всколыхнуло и их деревню, и другие деревеньки, чудом уцелевшие после фашистского нашествия среди черневших вокруг пепелищ и воронок, зияющих после взрывов. Так же, как и во всех домах, жилищах необъятной страны, поднялось многоголосье, прозвучав криками радости победы. Доносились эти крики то из одного, то из другого дома. И дом бабушки и дедушки Риты тоже наполнился ликованием! Обнимаясь и целуясь со слезами на глазах, крепко обнялись старики и молча обратились они к висящим на стене фотографиям трех погибших на фронте сыновей.
И разрыдалась, и запричитала Анна Васильевна сквозь слезы, словно просила прощение у погибших на войне сыновей, что без них радуются они великому счастью победы. Сетуя, что не уберегла их судьба для этого великого праздника:
– Вот и пришла победа, сыночки дорогие! Кровиночки вы наши! Царство вам небесное, сиротинки наши! А мы – теперь ваши сиротки! Простите нас, что мы без вас тут радуемся, мальчишечки милые! Простите, что мы тут без вас еще живы. И в этой победе и ваши силушки молодые остались. Ни могилки у вас нет! Некуда прийти поплакать о вас, мальчики мои! Спасибо вам, сыночки, ваша это победа! Ваша, сыночки, мальчики мои…
И обессиленная рыданиями рухнула на пол Анна Васильевна, уже ничего не в состоянии сказать, только губы ее дрожали. Рита поднесла воды бабушке. К ней бросился муж, поднял ее, уложил на кровать. И, как ни было и ему горько, а подошел к дверце шкафа. Открыл его и достал ее праздничное платье, которое она на пасху, на Ильин день да в Новый год надевала. Сине серое, полосатое, с воротником и нарядно отстроченной планкой с крупными черными блестящими пуговицами.
– Вот, мать! Надень! Праздник у нас! У всего народа праздник. Значит и у сынов наших – тоже праздник. И мы всегда с ними, пока мы живы, и они в нашей памяти живы! И с ними теперь вот такая наша жизнь продолжается! Мы радуемся и сыночки наши в радости. Мы горюем, – и они с нами в горести! А сегодня праздник великий! Надень мать! Надень платье нарядное, прошу! Пойдем вместе со всеми, а значит и с ними. Пусть оттуда праздник увидят нашими глазами…
В этот момент раздался стук в окно. Это соседи прибежали и дочка их Нюша с сыном Шуркой, чтобы и их позвать идти вместе со всеми в село на митинг.
– Ты, Ритушка, ступай к людям! Радость-то какая! И мы выйдем! – сказал дед. И Рита поняла, что нужно их сейчас оставить одних с их горем. Что даже она сейчас лишняя в их горе. Рита с тетей Нюшей и двоюродным братом Шуркой шла в толпе общей радости. И, как и все вокруг; и плакала, вспоминая маму и все испытания военных лет, и улыбалась, выкрикивая небесам вместе со всеми: "Победа!!!"
А на улице и вправду – все высыпали из своих домов на улицу. Стучали в ворота и в окна соседям, вызывая на общее ликование! Это была такая великая всеобщая радость, что у всех было желание разделить эту радость. Люди, не сговариваясь, стихийно двинулись в село и к школе. И началось шествие людей – народа-победителя. Люди целовались, пели, танцевали, плакали, сливаясь с подходившими из соседних деревень по пути в село. То, что войне скоро конец чувствовалось по всему. Так долго жили люди одной общей надеждой. И те, кто ждал возвращения близких с войны, и те, кто получил похоронки, что и радость была общей. Как услышали по громкоговорителю, что Германия капитулировала, все бежали на улицу с криками радости, все обнимались, ликовали, многие плакали. Деревенская ребятня очумело носилась по улице с криками радости. Особый почет был военным, уже вернувшимся с войны, мальчишки отдавали честь, то хаотично бегая, то маршируя. А то просто носились среди людей, радостно горланя. На сельской площади было что-то вроде парада, техника какая-то была, военные шли, фейерверк запустить обещали – "не хуже, чем в Москве". А мальчишки, им же интересно оружие, погоны, петлицы. Вот и бегали за военными, руку к голове прикладывали – вроде как честь отдавали.
На фоне всеобщей безграничной радости раздавались вскрики рыданий тех, кому не суждено было дождаться своих мужей, сыновей, братьев, отцов. Это была невероятная симфония ликования и слез, радости и скорби. Вот уж действительно «радость со слезами на глазах». Как это было единение народа! Ни с чем не сравнимое чувство Победы!
Казалось, что и вдыхали люди не прежний воздух обрушившегося горя и беды, а воздух счастья и свободы.
В это утро люди перестали говорить друг другу привычное будничное «здравствуйте». Как в Пасху, не «здравствуйте!», а «Христос воскресе!» и в ответ – «Во истину воскресе!» Здороваясь, они по русскому обычаю, троекратно целовались, крепко, крепко пожимая друг другу руки, говорили:
– С Победой!
Появилась гармонь и зазвучали военные песни; и радуя, и надрывая душу неизбывной болью и скорбью одновременно. И закружились бабы и девчата в надрывно спотыкающемся вальсе в исполнении их школьного учителя музыки. Особенно запомнилось Рите то, как радостно отплясывала ее соседка Наталья, молодая женщина, нарядно одетая в заграничное платье и в кружевных, невиданной в те времена красоты белых носках на ее крепких стройных ногах, обутых в новенькие блестящие кожаные туфли. Во всех тех красивых вещах, что успел прислать Наталье посылкой из Будапешта её муж Иван, с которым всего-то за два месяца до начала войны они расписались. И она такой радостной франтихой отплясывала от радости, пела и выкрикивала:
– Будапешку взяли! Будапешку! Наши Берлин взяли! – радовалась женщина, что её муж Иван жив и, что пришла от него посылка с подарками прямо к великому празднику. А значит скоро и сам её Ванечка вернется домой. И проживут они всё-то отнятое войной счастье, всё-то у них еще будет…И так смеялась она, отплясывая на сельской площади в день 9 мая, подпевая:
– "На честном слове и на одном крыле!"… – как уж никогда больше ей веселиться и радоваться не придется. Потому что потом, спустя всего несколько дней придет на ее Ивана похоронка. И завоет Наталья от горя, заголосит на всю деревню. И станет ясно, что посылка накануне 9 мая была ею получена уже от погибшего в том же Будапеште мужа. Успел Иван отправить свой прощальный подарок Наталье. Успел!
Но это будет потом, а 9 мая она радовалась вместе со всеми величайшему празднику нашего народа. Рита оглядывалась по сторонам, высматривая в толпе радостных людей своих бабушку и дедушку. Но тетя Нюша, их дочка, обняла ее за плечи и прошептала ей на ушко:
– Не ищи, Ритушка! Не придут они. Пусть выплачутся дома…
На торговой площади села, где до войны по воскресеньям кипел базар, стекались люди в этот теплый майский день, здесь возник митинг. Школьный учитель истории обратился к землякам:
– Сегодня, в день Победы, мы не только радуемся и ликуем. Мы чтим память погибших на этой проклятой войне, навеки прощаемся с павшими товарищами. Нам выпало жить. Наши сыны, братья и отцы завоевали, защитили нашу жизнь. Как мы будем жить без тех, кто не вернулся? А будем мы жить с мыслью о них, с их одобрением или незримым упреком. С этим, с вечной памятью о наших дорогих, близких, любимых – так мы войдем в новую мирную жизнь! Но они всегда будут с нами рядом, живущие в нашей памяти!
И не было былых обид меж людьми в тот день и раздраев, и города и деревни – все жили одной радостью, одним общим счастьем.
Великий праздник 9 мая, оставшийся великим с нами и до сего дня. И среди примет нашей жизни; как яркое солнышко в утро Пасхального дня, какой бы не была погода в то воскресенье, или гром на Ильин день, потому что «сам Илья в колеснице по небу катит», так и наши слёзы 9 мая неизбывны. Это наше!
Глава 4. Из Петраково в Болшево
Солнечное утро осветило стену, увешанную картинками Маргариты. Букет желтых одуванчиков, стоящий в крынке. Дядя Саша с ружьем на охоте. Кот Тарасик, лакающий сметану в подполе, пока его никто не заступал за такой потравой. Дед и бабушка рядом, улыбающиеся. Корова по кличке «Дочка», красотой и, надоистостью которой так гордилась Анна Васильевна, рога которой украшал букет ромашек с васильками. Брат Шурка, двоюродный брат Маргариты – сын тёти Нюши. Улыбающийся Шурка с ведром язей, после их с Ритой удачной рыбалки с самодельной трехстенкой, которые они с Ритой ставили жарким летом в Яхроме. И портрет тети Нюши, русоволосой, синеглазой. За окном зеленел и расцветал май. Май – всегда май, даже во время войны нес радость первого тепла и яркой зелени. А уж теперь, когда война осталась позади, так только живи и радуйся майскому озорному солнышку.
Рита сидела на скрипучей деревенской кровати, покрытой лоскутным покрывалом. На коленях у неё лежал тот же самый чемодан, с которым она приехала сюда, в деревню, чтобы выжить. На дно чемодана она укладывала свои рисунки, в основном пейзажи и портреты односельчан. Потом этого – поверх уложила свои теплые вещи. Рядом стояли ее деревенские родственники, дающие советы, что брать с собой, отправляясь на вступительный экзамен в Московский Швейный техникум. Помогали Рите – абитуриентке 1947 года укладываться в дорогу. Кто-то из соседок подарил ей свою кофту. Тетя Нюша сшила платьице, темно синее в горошек. Кто-то юбкой поделился. Рита была очень благодарна за всё. В свои четырнадцать она вдруг превратилась в настоящую русскую красавицу с белоснежным лицом, которое, не смотря на все беды ее сиротства, украшал яркий румянец. Две русые косы ложились весомо на ее красивые плечи. Рита аккуратно намотала на ноги портянки, потолще. Потому, что поедет поступать в Болшево в дедовских сапогах 42 размера на свой 35 размер своей изящной ножки.
Она нырнула в дедовские сапоги. Встала и потопталась на месте, проверяя, удобно ли сидят. Тетя Нюша всплакнула на прощанье и вдруг сорвалась к порогу, на секунду оглянувшись, крикнула Рите и провожающим ее близким:
– Погоди! Я сейчас! Без меня не уходите!
Она вернулась вскоре, что-то прикрывая фартуком. Откинув его, протянула Рите белые босоножки. Она бережно держала их на вытянутых ладонях. Улыбаясь и, пытаясь одновременно смахнуть слезы, тётя Нюша сказала:
– Всё ж не на агронома учиться едешь! В швейный техникум поступаешь!
А там все модницы, зазнайки! Вот по знакомству в Дмитрове достала. А мне, уж некуда форсить!
Маргарита буквально захлебнулась от восторга, увидев эти легкие, такие праздничные босоножки. В растерянности не сразу нашла слова:
– Ой! Тётя Нюша! Красота-то какая! Прямо бальные, в таких только во дворце танцевать. Сейчас примерю! Ой! Спасибо Вам! Спасибо! – залепетала от восторга Рита, обнимая тетю Нюшу.
Тотчас, скинув дедовы сапоги и размотав портянки, Рита примерила эти простые советские, на несколько размеров больше на ногах четырнадцатилетней Маргариты ее первые туфельки – белые босоножки. Сев на кровать, вытянув ноги, залюбовалась подаренными тетей Нюшей туфлями. От радости болтала ногами, рассмешив провожающих ее соседей и родственников.
Когда Рита приехала сдавать вступительный экзамен, приблизившись к зданию техникума, быстро, закинув за плечи свои великолепные светло-русые косы, прислонившись спиной к дереву, торопливо стянула дедовы сапоги. Озираясь, стыдливо размотала и портянки. Развязав узелок, достала подаренные тетей Нюшей босоножки. А сапоги деда Маргарита свернула и бережно завернула в газету, потом положила в тот же, что дал ей отец, дерматиновый, с фигурными металлическими уголками чемоданчик красновато-коричневого цвета. Потом Рита переобулась в те белые босоножки. И даже увидев те же белые босоножки, целую стаю их, но на разных ногах поступавших девочек, у кого-то на разноцветных носках – она опять порадовалась и мысленно поблагодарила тетю Нюшу за обнову, благодаря которой она в этой новой для нее среде – оказалась «своя» – не хуже всех.
Наступил день, когда все девочки, собрались у доски с вывешенными результатами экзаменов. Это абитуриентки Московского швейного техникума толпились перед висящем на стене объявлением со списком поступивших. Вдали показалась Маргарита. Теперь она «не хуже всех» и потому смело подошла к толпящимся абитуриенткам. Встала вместе со всеми. Но пробраться к списку невозможно. Кто-то из девочек зачитывает списки вслух. Девочки заспорили:
– Нина Заморская пусть читает! Нет, у Веры Савиной голос громкий Пусть Пима Головкина читает. И Пима Головкина стала громко читать, чтобы было слышно и тем, кто сгрудился у этого судьбоносного объявления, и тем, кто налегал сзади:
– «Курс моделирования головных уборов»! Говорят, его только в этом году открыли. Теперь такая жизнь будет!
Её перебила Нина Заморская:
– Да, читай же скорей! Не тяни душу!
И Пима Головкина, поглубже вздохнула, и стала называть счастливиц, принятых в техникум:
– Нина Заморская, Вера Савина, Маргарита Белякова…
До того, напряженное, лицо Маргариты, стало радостно спокойным. И она сама почувствовала, что на её лице появилась улыбка счастья. Пьянящего, радостного, окрыляющего, словно все беды теперь ни по чем.
Но тотчас Рита вспомнила, что нужно успеть договориться о месте в общежитии для неё. И она танцующей от радости походкой пошла в здание Московского Швейного техникума, по тем временам внушительное здание в стиле конструктивизма, величественно возвышающимся над одноэтажными деревянными домишками городка Болшево под Москвой. Доносились до Риты и какие-то другие фамилии поступивших, но Риту это уже не касалось, потому что ни друзей, ни знакомых тут никого не было. И долетавшие ей вслед чьи-то фамилии, но все это были не знакомые имена. Она ушла узнать о возможности поселения в общежитии. Заглядывала то в одну, то в другую дверь, пока не столкнулась в дверях кабинета с солидной советской дамой. Это оказалась зам. директора Швейного техникума. Она спросила Риту:
– Девочка? Что ты ищешь?
Маргарита ответила заплетающимся от смущения языком:
– Вот…Я поступила, а жить мне негде.
– Понимаю! Ты хочешь жить в общежитии?! Но места ограничены. Мы предоставляем места только детям погибших военнообязанных на фронте.
Маргарита растерялась от неожиданности:
– У меня мама умерла…
– Она была военнообязанная? Она воевала? Ну, что же ты молчишь? Хм! Понятно! Ну, что ж. Здесь в Болшево многие из наших учащихся снимают углы. Не дорого. А папа? Отец тебе помогает?
– Он. Он женился…
– Понятно.
– Но он присылает мне пять тысяч рублей в месяц.
– Понятно; за потерю кормильца тебе пересылает? Те самые пять тысяч, которые государство высылает ежемесячно сиротам! А кроме этого он тебе помогает? От себя помимо этих пяти тысяч рублей в месяц, что-нибудь тебе дает?
Рита низко опустила голову, словно это ей должно было быть стыдно за то, что директор школы сироте только передает те деньги, которые ей осиротевшей дочери ежемесячно дарило на пропитание государство. С трудом, преодолевая спазм в горле, она выдавила из себя лишь горькую правду: