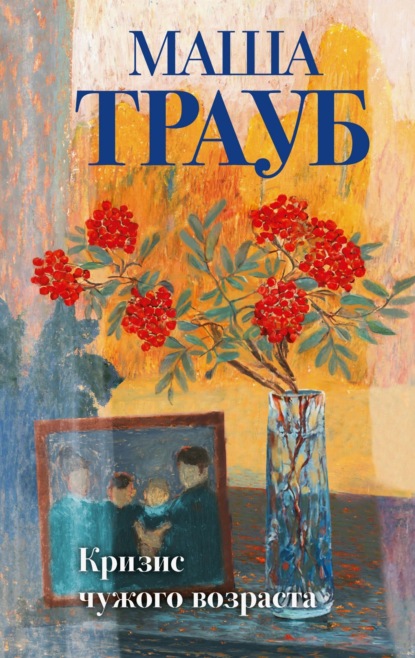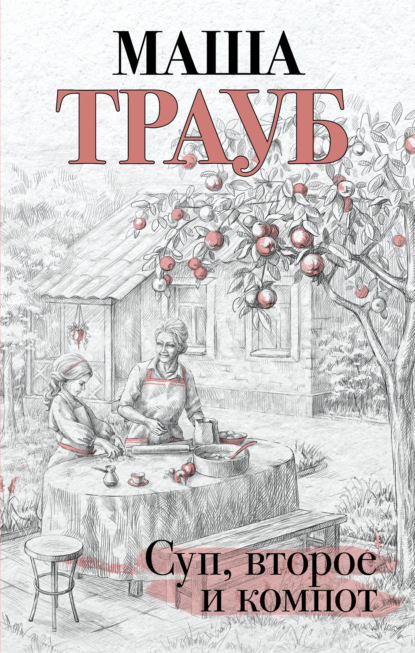Посмотри на меня
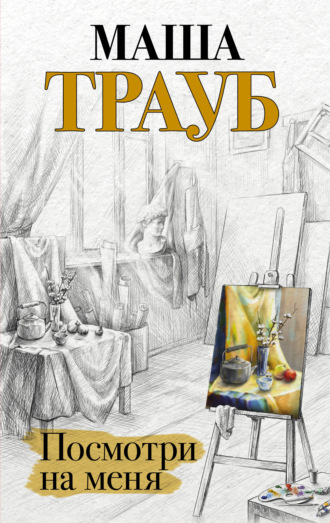
Полная версия
Посмотри на меня
Жанр: современная русская литератураженская прозапсихологическая прозажизненный выборпревратности любвижитейские историисемейная драмалегкая проза
Язык: Русский
Год издания: 2022
Добавлена:
Серия «Проза Маши Трауб. Жизнь как в зеркале»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу