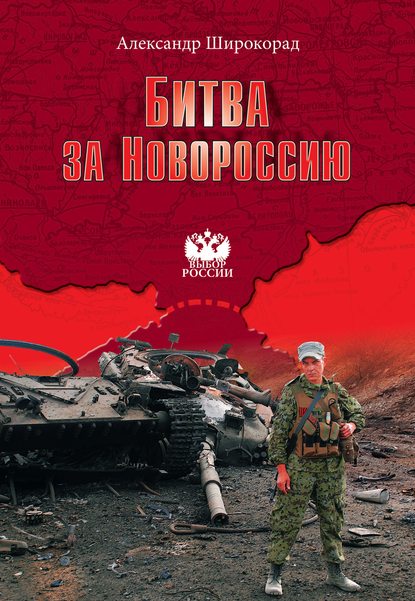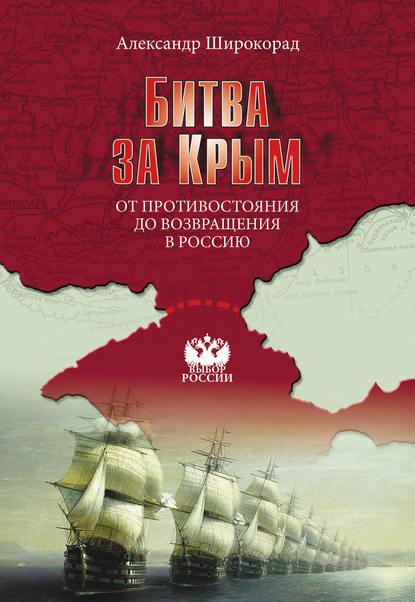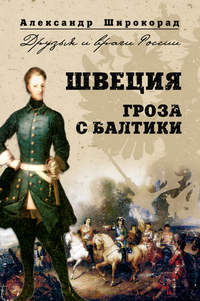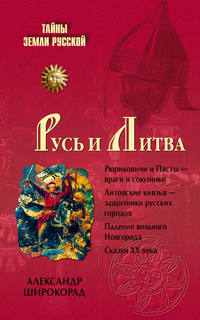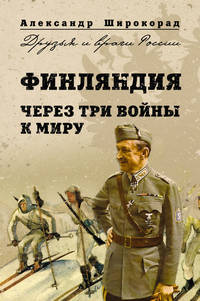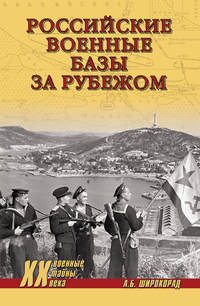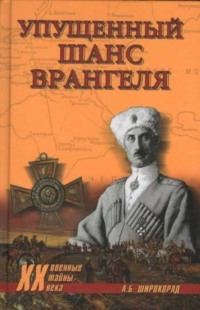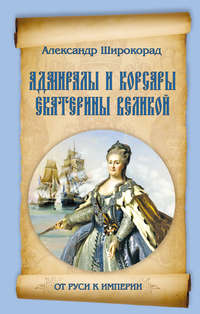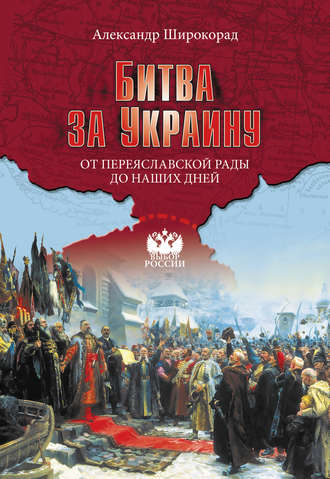
Полная версия
Битва за Украину. От Переяславской рады до наших дней
Любопытно, что один из очевидцев, обличая «зверства Меншикова», писал: «…многожъ въ Сейм потонуло людей, утекаючи чрезъ ледъ еще не крђпкій».
Да, надо быть щирым украинцем, чтобы понять, как пускать плоты с распятыми людьми по реке, покрытой льдом.
И вот на Украине, где свыше 20 лет перманентный экономический кризис, в 1995 г. начались крупномасштабные раскопки в Батурине.
В 2001 г. к раскопкам подключились канадские ученые. Спонсорами канадско-украинских исследований выступили Канадский институт украинских исследований – «Программа Ковальских по изучению Восточной Украины», Американское научное общество имени Шевченко, Папский институт средневековых исследований (PIMS) в Торонто.
В 2003–2004 гг. средства на проведение раскопок пожертвовал Центр украинских исторических исследований имени Петра Яцика. В 2005 г. начал оказывать поддержку «Фонд Батурина», основанный в том же году президентом Украины.
В 2005 г. в раскопках участвовали 150 студентов и ученых из университетов Чернигова и Нежина и Киево-Могилянской академии. В 2006 г. – 120 студентов и ученых из университетов и музеев-заповедников Киева, Чернигова, Глухова, Ровно, Батурина и университета города Граца (Австрия).
Раскопано все что можно – гетманский дворец Демьяна Многогрешного, фундаменты и некрополь двух церквей, остатки деревянно-земляных укреплений. Слой истории города до XVIII в. археологов не интересовал.
Искали 15–20 тысяч убитых. И что? В результате многолетних целенаправленных усилий совместной канадско-украинской экспедиции на месте разрушенной крепости удалось обнаружить всего около семидесяти «захоронений». Некоторые из них походили на то, что так трепетно ожидалось («погребение ребенка без гроба», «череп подростка в сгоревшем жилище», «останки женщины 20–30 лет с расколотым саблей черепом», «череп с пулевым отверстием в затылке подростка 9—12 лет, несколько десятков засыпанных пеплом скелетиков детей 1–5 лет»), но выдавать это за результат «геноцида в Батурине» просто неприлично. Тем не менее украинские археологи упорствуют: «Резня была тотальной, и в Батурине не осталось никого».
А что скажет на это неангажированный и серьезный историк? На основании полученных данных он лишь сделает вывод, что в Батурине люди умирали. Не всегда планово. Детская смертность была высокая. Кто может доказать, что женщина «с расколотым саблей черепом» не была убита пьяным казаком на бытовой почве? Или что деревянный дом, где было найдено несколько детских скелетов, не сгорел раньше в результате неосторожного обращения с огнем?
Понимая это, один из руководителей экспедиции доктор В. Мезенцев признает: «Мы не можем нашими исследованиями посчитать каждого человека, но уверены, что массовые захоронения были. Однако “История Русов” свидетельствует, что много трупов было потоплено в Сейме».
Замечательное оправдание! Из уст уважаемого археолога такая ссылка звучит как приговор его профессиональной компетентности.
Самостийные мифотворцы не понимают, что болтают. Как, к примеру, пять тысяч солдат и драгун Меншикова, не имея ни единой пушки, могли взять хорошо укрепленный Батурин, где имелось свыше 70 исправных орудий и гарнизон которого составлял 15–20 тысяч человек? Что, мазепинцы пьяные в стельку были? Да, кстати, и эта версия мелькает в украинской прессе. Мол, «украинское войско» отбило нападение москалей, а затем-де казаки изрядно наклюкались. Тут-то злыдень Данилыч вернулся и учинил «батуринскую резню».
А серьезно, сколько пушек было в Батурине? Мазепа собрал туда лучшую часть артиллерии и огромные припасы пороха и ядер. По данным украинских историков, там было 350 пушек. Меншиков сумел вывезти из Батурина 70 пушек, а наиболее тяжелые были взорваны или заклепаны на месте. Замечу для сравнения, что Карл XII привез в Малороссию всего около 30 пушек.
Если бы действительно Меншиков, располагая ничтожными силами, приступом взял Батурин, он стал бы величайшим полководцем мира. Но, увы, все было гораздо проще. Основу гарнизона Батурина составляли сердюки и «компанейцы», то есть наемники. А их даже националист Михайло Грушевский называл «всяким сбродом». Действительно, малороссы составляли в них меньшинство. Там в основном служили поляки, молдаване, татары и те же «клятые москали». Их насчитывалось от четырех до шести тысяч. Но были в Батурине и казаки Прилуцкого полка. Как уже говорилось, их полковник Дмитрий Горленко, сын полковника Лазаря Горленко, драпанул вместе с Мазепой.
Командование полком принял старшина Иван Ефремович Нос. Прилуцкие казаки не желали драться с царским войском, и Нос вступил в тайные переговоры с Меншиковым. В итоге русские захватили ту часть валов и ворота, где находились прилукцы. Последние, согласно договоренности, легли на землю и все остались целы.
Забавно, что украинские историки утверждают, что якобы позже Меншиков приказал перебить предателей. Доказательств у них, как всегда, нет.
Но через десять дней царь Петр назначил Носа полковником Прилуцкого полка, и в этой должности он пребывал до 1714 г., а затем стал 2-м генеральным судьей при гетмане.
Риторический вопрос: если кто-то из прилукцев пострадал, царь дал бы должность Носу подалее от Прилук?
Вполне допускаю, что при штурме часть комбатантов была перебита. Естественно, пострадали и батуринские обыватели. Замечу, посад, то есть основную часть города, сожгли сами мазепинцы, а строения в батуринском замке – русские. Не оставлять же замок шведам?!
Но приказа специально убивать мирных жителей не давали ни Меншиков, ни сам Петр.
Мало того, Скоропадский упоминает об «изменничем универсале» князя Меншикова, согласно которому большая часть взятых в Батурине сердюков и городовых казаков была распущена по домам.
Спору нет, заводчики обороны Батурина были четвертованы или колесованы по приказу царя. Замечу, что главнейших из них – Чегел – сумел уйти из города, но в ближайшем же селении его узнали казаки и отвели к Меншикову.
Таким образом, при штурме Батурина было перебито не более половины сердюков. Значительная их часть сумела вырваться из Батурина, о чем упоминает в своем дневнике и сопровождавший Карла XII шведский дипломат Йосиас Цедергельм.
22 декабря 1708 г. новый гетман Скоропадский отправил батуринскому атаману Даниилу Херевскому универсал, в котором разрешал вернуться и строиться всем жителям Батурина и давал им ряд льгот. Любопытно, сей универсал предназначался для мертвецов?
Повторяю, погибло несколько десятков мирных жителей, а казаки Прилуцкого полка уцелели все. В каждый год «руины» в Малороссии гибло на порядок или больше людей, чем в Батурине.
Риторический вопрос: зачем нужно было разыгрывать дорогостоящую комедию? Тринадцать с лишним лет вести археологические раскопки в Батурине, а потом восстанавливать все – дворец, церкви, дома и т. д. Зачем выбрасывать сотни миллионов долларов в нищей Украине?
На сей вопрос четко ответили украинские историки:
«В истории Украины есть одна трагическая страница, ставшая символом национальной боли, прерванного украинского величия и поруганной чести одновременно. Это – Батурин. Точнее, “батуринская резня 1708 года”, когда в ответ на попытку “украинского” гетмана И. С. Мазепы объявить независимость Украины от России и перейти на сторону шведов, заключив с Карлом XII “украинско-шведский союз”, резиденция гетмана, блистательная столица Гетманата Батурин, в один день 2 ноября 1708 года была превращена в руины. А жители ее – все до единого зверски вырезаны.
Вот почему для “сознательных” украинцев трагедия, произошедшая в Батурине, стала символом печального финала “золотого века” казачества и постоянным напоминанием того, что прошлое может вернуться, если о нем забыть.
Каждый украинец должен знать, какой ценой была добыта победа и какие жертвы пришлось принести в истории на алтарь независимости Украины. Знать и помнить всегда, передавая из поколения в поколение. В этом контексте заклинание: “Помни о Батурине” звучит уже как memento mori. Помни о смерти. Украинцы должны помнить об этом, чтобы жить.
При этом обращаем внимание на то, что в данном случае образ Батурина уже выступает как образ всей Украины: вот что с ней произойдет, если украинцы не будут бдительны, если не осознают, кто их настоящий враг, если и дальше будут терпеть рядом врагов и предателей. Хотят ли они, чтобы их страну враг превратил в пепелище? Чтобы цветущая страна курилась от пожарищ? Чтобы их жен и детей враги резали, как свиней? Нет. Значит, ни при каких обстоятельствах нельзя доверять “москалям”. А если кто в этом сомневается, пусть вспомнит о Батурине.
Сейчас этот враг пытается показать себя другом. Продает газ. Пытается с Украиной сотрудничать. Идет на частные уступки по долгам и оплате. Но мы-то помним о том, что он сделал в Батурине, и не прощаем. Он говорит о былом братстве, но мы-то знаем, что за Батурин еще никто не покаялся и не ответил. Он говорит о мире и стратегическом партнерстве, но мы-то в курсе его варварского обычая завидовать лучшим и никого не щадить. Мы помним, потому что невинно убитые взывают к нам из своих безвестных могил. И что? Мы не слышим? Мы все помним. Помним, а значит, не верим и не простим.
Так, благодаря памяти о Батурине, формируется своеобразный общенациональный иммунитет, позволяющий украинцам открыто говорить, что Украина – не Россия и никогда не была ею. Тот иммунитет, без которого не может быть “сознательного” украинца. Иммунитет, не позволяющий ему забыть своих зверски замученных предков, память о которых делает его украинцем сейчас»[30]. Итак, «батуринская резня» нужна для воспитания ненависти к России у подрастающего поколения. Россия была вечным врагом Украины и таковым и останется. Так пускай населению Батурина бесплатно поставляют газ!
Глава 4. Первое разрушение Запорожской Сечи и тайны Полтавской битвы
Украинские историки не зря выдвигают на первый план разрушение Батурина, и разгром Запорожской Сечи уходит как-то на второй план. Дело в том, что до прихода войска Карла XII в Малороссию гетман Мазепа жестко враждовал с запорожцами и регулярно писал на них доносы Петру I.
Ну а с появлением шведов руководители Сечи попытались выцыганить у царя ряд привилегий и земель. Запорожцы долго колебались. Спору нет, на Раде в Сечи много говорили о притеснениях царем малороссов и запорожцев. Но на самом деле это была сплошная демагогия. Тон задавали молодые казаки – «гультяи», как их называли. Они 9 месяцев назад порывались идти в поход с Булавиным, и, кстати, многие пошли с Кондратом на Дон. Так может Булавин и Некрасов тоже воевали за «незалежну Украину»? Понятно, что «молодым казакам» до смерти хотелось пограбить, а кого – это дело десятое.
Чтобы представить себе ситуацию с Сечи в конце 1708 – весной 1709 г., следует сказать пару слов о социальном расслоении запорожцев.
Запорожцы в XVI в. создали миф о равноправии и братстве всех запорожских казаков и старались поддерживать его в последующие века. Да, чисто формально все казаки были равны. Выборы атаманов и гетманов действительно были более демократичные, чем сейчас наши президентские и думские выборы. Однако реальная власть, большей частью скрытная, находилась в руках «знатных старых» казаков.
Древние мифы запорожского казачества крайне пригодились в ХХ в. как советским, так и националистическим историкам. Первые доказывали, что действия казаков были исключительно элементом классовой борьбы крестьян против феодалов, а вторые утверждали, что как запорожские, как и реестровые казаки представляли собой особый класс украинского народа, который боролся за национальную независимость «вильной Украины» в границах 1991 г. Как видим, цели у «совков» и националистов были разные, а мифологию они создавали примерно одинаковую.
Вопреки устоявшимся взглядам, многие запорожцы были… женаты и жили не в Сечи, а в зимовниках, то есть на хуторах, расположенных на Великом лугу. Жившие в зимовниках казаки занимались хлебопашеством, скотоводством, торговлей, ремеслами и промыслами и потому назывались не «лыцарями» и «товарищами», а подданными или посполитыми сичевых казаков, «зимовчиками», «сиднями», «гниздюками». Помимо этого сичевые казаки звали сидней в насмешку «баболюбами» или «грегносиями». Кстати, многие богатые казаки и имели наложниц и не по одной в паланках и пасеках вблизи Сечи.
Тем не менее сидни, как писал Яворницкий, «несмотря на то, что были женаты, обязаны были нести воинскую службу беспрекословно; в силу этого каждому женатому козаку вменялось в обязанность иметь у себя ружье, копье и “прочую козачью сбрую”, а также непременно являться в Кош “для взятья на козацство войсковых приказов”; кроме воинской службы, они призывались для караулов и кордонов, для починки в Сичи куреней, возведения артиллерийских и других козацких строений. Но главною обязанностью гниздюков было кормить сичевых козаков. Это были, в собственном смысле слова, запорожские домоводы: они обрабатывали землю сообразно свойству и качеству ее; разводили лошадей, рогатый скот, овец, заготовляли сено на зимнее время, устраивали пасеки, собирали мед, садили сады, возделывали огороды, охотились на зверей, занимались ловлею рыбы и раков, вели мелкую торговлю, промышляли солью, содержали почтовые станции и т. п. Главную массу всего избытка зимовчане доставляли в Сичь на потребу сичевых козаков, остальную часть оставляли на пропитание самих себя и своих семейств»[31].
Тот же Яворницкий писал: «Как велико было у запорожских козаков количество лошадей, видно из того, что некоторые из них имели по 700 голов и более… Однажды кошевой атаман Петр Калнишевский продал разом до 14 000 голов лошадей, а у полковника Афанасия Колпака татары, при набеге, увели до 7000 коней…
…В одинаковой мере с коневодством и скотоводством развито было у запорожских козаков и овцеводство: у иного козака было до 4000, даже по 5000 голов овец: “рогатый скот и овцы довольно крупен содержат; шерсти с них снимают один раз и продают в Польшу”»[32].
Может ли один человек без жены и детей, пусть даже не занятый походами и пьянством, обслуживать 700 лошадей или 5000 овец? Понятно, что нет. Кстати, и Яворницкий пишет: «…овечьи стада назывались у запорожеских казаков отарами, а пастухи – чабанами, – названия, усвоеные от татар»[33].
Итак, экономика Войска Запорожского держалась на тысячах грездюков (сидней) и сотнях или тысячах чабанов.
Понятно, что старшина, то есть богатые запорожцы, могли безбедно жить и в мирное время, а каково молодым (бедным) казакам, жившим в Сечи в куренях-казармах? Питались они если не впроголодь, то весьма скудно. Женщин в саму Сечу (имеется в виду крепость, а не территория Войска Запорожского) действительно не пускали под страхом смертной казни. Так что молодым казакам (не по возрасту, а по положению) оставалось целыми днями слушать бандуристов, играть в карты, в кости и мечтать о походах, славе, а главное, богатой добыче.
С конца XV в. главным источником добычи запорожцев были крымские татары и турки. Казаки регулярно грабили Крым и все Причерноморье – Сухум, Трапезунд, Синоп, Варну и т. д. Периодически они появлялись даже на берегах Босфора.
Но, заключив в 1700 г. мир с Турцией, царь Петр под страхом строжайших кар запретил казакам нападать на крымских татар и турок. И вот восемь (!) лет запорожские молодые казаки были без походов и добычи. Мелкие грабежи татар и проезжих купцов не в счет. Какое тут «антиколониальное восстание», оголодавшие гультяи были готовы идти в поход «за зипунами» с кем угодно – с Булавиным, Мазепой, Карлом XII, да хоть с самим Люцифером.
Чтобы сломить сопротивление старых запорожцев, твердо стоявших за Петра, кошевой атаман Гордиенко сделал хитрый ход. Он собрал до тысячи молодых казаков, взял в Сечи девять пушек и пошел к крепости Переволочной, где стоял гарнизон Войска Запорожского во главе с полковником Нестулей.
Замечу, что все эти действия Гордиенко произвел в инициативном порядке, без санкции Рады в Сечи. Мало того, Гордиенко устроил у Переволочны незаконную Раду. В ней приняли участие уже упомянутые тысяча гультяев из Сечи и 500 казаков из гарнизона Переволочны. Туда уж прибыли ехавшие в Сечу мазепинские посланцы – генеральный судья Чуйкевич, киевский полковник Мокиевский и бунчуковый товарищ Федор Мирович, сын переяславского полковника.
12 марта нелегитимная Рада решила вступить в союз со шведами. По настоянию кошевого атамана к шведскому королю была отправлена депутация из запорожцев с этим письмом.
А пока посланцы Гордиенко гостили у шведов, начались стычки русских с запорожцами. Так, у местечка Царичанки 800 запорожцев атаковали бригадира Кампеля, у которого было три полка драгун (три тысячи человек). Запорожцы изрубили 100 драгун и 115 захватили в плен, потеряв своих только 30 человек. Молодые запорожцы и примкнувшая к ним малороссийская вольница составили почти 15-тысячное войско. Запорожцы вскоре овладели городками по рекам Орели, Ворскле и Днепру и везде оставляли в них по сильному гарнизону.
На помощь запорожцам Карл XII послал генерал-майора Карла Густава Крузе с конным отрядом в 2730 сабель при четырех пушках. Вместе с ними отправилось 500 мазепинцев. К ним присоединилось до трех тысяч казаков Гордиенко.
Рано утром 12 апреля 1709 г. эти силы подошли к местечку Соколки на левом берегу реки Ворсклы, где стоял русский корпус генерал-лейтенанта Ренне численностью около 7 тысяч солдат и драгун.
На счастье шведов, стоял густой туман, и им удалось внезапно атаковать русских. Корпус Ренне был прижат к реке. Однако тот сумел остановить бегущих и пошел на прорыв. В это время запорожцы занялись грабежом русского лагеря и отказались повиноваться Крузе.
По версии шведского историка Нордберга[34], русские бежали, а шведы их преследовали на расстоянии свыше 11 миль. У русских было убито 400 человек и ранено тысяча. У шведов убито и ранено до 290 человек. При этом Нордберг признает, что на следующий день Крузе увел свои войска от Соколок.
По данным же Ренне, сражение у Соколок закончилось в пользу русских. Шведы оставили на поле боя 800 убитых, в том числе полковника Гильденштерна. Много шведов и запорожцев утонуло при переправе через Ворсклу. Трофеями русских стали четыре пушки. Потери русских составили около 50 человек.
В конце концов царь Петр Алексеевич осерчал и «отдал приказание князю Меншикову двинуть из Киева в Запорожскую Сичь три полка русских войск с тем, чтобы истребить все гнездо бунтовщиков до основания. Князь Меншиков возложил исполнение царского приказания на полковника Петра Яковлева и велел ему, по прибытии на место, прежде всего объявить запорожцам от имени государя, что если они принесут повинную, выберут нового кошевого атамана и прочих старшин и пообещают при крестном целовании верно служить государю, то все их вины простятся и сами они будут при прежних своих правах и вольностях.
Полковник Петр Яковлев сел с полками на суда под Киевом и пустился вниз по Днепру. За ним по берегу Днепра должна была следовать конница, чтобы не дать возможности запорожцам отрезать пути двигавшейся по Днепру русской флотилии»[35].
16 апреля полковник Яковлев спустился на судах к местечку Келеберда. Яковлев послал требование, чтобы жители покорились царю. Келебердинцы, поджигаемые запорожцами, «учинились противны». Тогда Яковлев приказал идти на приступ. Келебердинский сотник решил сдаться, но Яковлев заподозрил какой-то подвох и приказал солдатам продолжать приступ. Сотник и жители успели уйти, сотник убежал в Переволочну. Яковлев сжег Келеберду, пощадив только церковь. Это было сделано в отместку за то, что раньше келебердинцы доставляли Мазепе и запорожцам провиант, а свои семьи отправили под защиту запорожцев.
18 апреля Яковлев прибыл к Переволочне. Крепость Переволочна находилась у брода на Днепре, недалеко от впадения в него Ворсклы. При царе Алексее Михайловиче крепость входила в состав Полтавского полка. К началу XVIII в. она была хорошо укреплена и имела внутри замок с 26 пушками.
В марте 1709 г. гарнизон крепости передался без боя запорожцам. Ко времени подхода к Переволочне полковника Яковлева там находился запорожский полковник Зилец с тысячью запорожцев и около двух тысяч обывателей и селян.
«Яковлев, по данному ему наказу, прежде всего послал предложение сдаться и признать власть царя; запорожцы отвечали выстрелами из пушек и ружьев. Запорожцы считали себя искуснее москалей в военном деле, но ошиблись. Русские военные люди были многочисленнее и искуснее защитников Переволочны: они ворвались в местечко, рассеяли защищавших его козаков и стали метать в замок ядра и бомбы; защитники отстреливались, но ничего не могли сделать. После двухчасового дела замок был взят, запорожцы в числе 1000 человек побиты, иные засели обороняться в избах и сараях и были там сожжены вместе с их убежищами; прочие все бросились спасаться бегством, но попали в Ворсклу и в Днепр и потонули. Взято было в плен только 12 человек; солдаты в погоне за беглецами без разбора всех убивали, не щадили ни женщин, ни детей. В Переволочне была самая удобная переправа через Днепр, и потому там находился большой запас судов, на которых сразу можно было переправить через реку до 3000 человек. Полковник Яковлев приказал все эти суда сжечь, также велел истребить огнем в местечке мельницы и все хоромное строение, которого там было немало, потому что Переволочна считалась в Украине городом богатым, торговым, где существовала и таможня, с которой доход шел в войсковый скарб Запорожской Сечи. Неудача в Переволочне до такой степени навела уныние на запорожцев, что они стали покидать городки на Ворскле, где уже разместили свои гарнизоны»[36].
Ну а 14 мая 1709 г. Яковлев и малороссийский полковник Игнат Галаган с отрядом конницы штурмом овладели Сечью.
Трофеями русских стали 36 медных и чугунных пушек, 4 мортиры, 10 пушечных станков, 12 больших и малых гаковниц, 62 рушницы или ружья, 450 пушечных ядер, 600 ручных ядер (гранат?) и 13 знамен.
Когда Петр I, находившийся в Троицкой крепости, 23 мая получил донесение Меншикова о разгроме Чортомлыцкой Сечи, он ответил Алексашке: «Получили мы от вас письмо о разорении проклятого места, которое корень зла и надежда неприятелю была, что мы, с превеликою радостью услышав, Господу, отмстителю злым, благодарили с стрельбою»[37].
Стоит добавить, что русские войска в 1709 г. сражались не только с запорожскими казаками, но и с некрасовцами, ежегодно вторгавшимися в русские пределы. Из той же Троицкой крепости в начале мая 1709 г. писали Апраксину о движении 1500 некрасовцев вверх по Дону.
Спасибо «оранжевым» баснописцам, что они некрасовских казаков не записали в борцы за «вильну Украину».
Полтавская баталия достаточно хорошо описана в отечественной литературе, поэтому я ограничусь описанием белых пятен, выпавших из поля зрения историков.
Начну с того, что гарнизон Полтавской крепости состоял из трех пехотных полков (всего 4182 солдата), а также 91 пушкаря и около 2600 вооруженных местных казаков и обывателей. То есть, попросту говоря, город защищал смешанный гарнизон из великороссов и малороссов.
Мало кто знает, что в Полтавском сражении участвовали только четыре легкие 3-фунтовые шведские пушки, а остальная артиллерия находилась в обозе у деревни Пушкаревка.
28 июня около 7 часов вечера шведская армия выступила из Пушкаревки. Отход не был похож на бегство, колонны шли под бой литавр и барабанов. Русские не пытались преследовать противника.
Король, сидя в коляске, ждал с арьергардом, пока не ушел весь гигантский обоз.
В первые три дня русские даже не пытались преследовать противника.
Карл XII повел свою армию по правому берегу реки Воркслы к Переволочне, где надеялся переправиться на правый берег Днепра. Там кончались пределы России и начиналось Дикое поле. Направо по Кучманскому шляху король мог привести армию к турецким городам Балте и Бендерам. Налево Черный шлях вел к турецкой крепости Гази-Керман.
Соединись шведы с турками, и война бы в Малороссии затянулась на много лет. Но Карл не знал, что Яковлев сжег Переволочну вместе с лодками и другими переправочными средствами. Изготовить на месте плоты и иные средства для переправы шведские инженеры не могли, поскольку между Переволочной и Тахтаевкой почти не было леса, а простиралась степь с небольшими зарослями кустарника и перелесками по окраинам многочисленных болот.
В итоге через Днепр переправили лишь короля, несколько сот его приближенных и конвой. И тут-то появилась русская армия. Генерал от инфантерии граф Людвиг Левенгаупт приказал сдаваться.
Всего в плен попало около 20 тысяч шведов. Среди них было 3 генерала, 980 офицеров, 12 575 унтер-офицеров и рядовых.
Под Переволочной русским досталась и вся шведская артиллерия – 31 орудие (21 пушка, 2 гаубицы и 8 мортир). И наконец, в руки победителям попали огромные средства: основная казна армии составляла два миллиона монет разного рода и достоинства, в кассах полков находилось около 400 тысяч монет и в денежных ящиках Мазепы – свыше 300 тысяч монет.