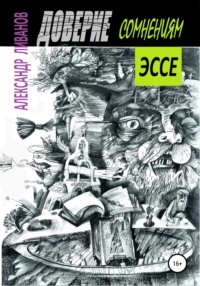Полная версия
Начало времени

Александр Ливанов
Начало времени
Дочери моей, Надежде
…Привязало, осаднило слово
Даль твоих времен.
С. Есенин
На подводе, тяжело груженной гнилым тряпьем и рванью, сидело двое менял. Они были без шапок, лохматы и черны, как цыгане. На темных лицах, в гуще таких же темных, всклокоченных бород и усов, дико сверкали белые зубы и голубоватые белки глаз. Веселые, громкоголосые люди, они, наверно, проводили ночи у лесных костров, ели печеную картошку, пили самогон, и умываться считали делом совершенно излишним.
А может, это и впрямь были цыгане? При всем старании я не смог увидеть их ног. Будто безногими проросли громкоголосые менялы из своего гнилого тряпья; так весной из осевшего грязного снега прорастают черные ракиты.
Зато очень хорошо рассмотрел я дергающиеся на тонких резиночках ярко-красные обезьянки с трепыхающимися ручками-ножками на пружинках; бумажно-фольговые с ниточками-меридианами серебристые и золотые шарики, заполненные опилками и пляшущие на тех же тонких резинках; глиняные свистульки слева и справа, на боках барашков-свистулек были дырочки, чтоб касанием пальцев украшать звук во время игры. Я уж не говорю про спички и иголки, шпильки и нитки, пугачи и гребенки, стеклянные пуговки-гудзики да парадно-симметрично выстроенные на глянцевитых бумажках сверкающие кнопки. Крохотные, аккуратные кнопочки мне чем-то напоминали городских чистых и улыбчивых девочек. Правда, девочек таких я еще в жизни ни разу не встречал. Разве что в книжке-букваре «Червони зори», заляпанной чернилами и наконец доставшейся мне от Андрейки, моего друга, которому почему-то быстро прискучила школа. В городских девочках этих на рисунках в книжке была воплощена непостижимая для меня аккуратность. Ни на Анютке, Андрейкиной сестренке и моей подружке, ни на любой другой деревенской девочке я не видел таких, например, изящных юбочек, таких красивых ботиночек и носочков-шкарпеток, таких гладко причесанных волос! Один вид этих девочек вселял в мою душу робость и неясное томление о далекой, недоступной мне красоте.
Да, на возу, в кованом сундучке и откинутой крышке его, были замечательные вещи. Правда, я все это видел еще раньше в лавке Йоселя. О, что это была за лавка! Каждый раз, когда мне доводилось бывать там, она ослепляла меня. Слишком волнующим и ярким было видение, чтоб я смог запомнить подробности…
На крышке сундучка у менял я заметил зеркальце, вернее, картинку на небольшом зеркальце-складенце.
Мать, принесшая полуистлевшие ошметки полушубка, вынуждена на миг прервать беседу с веселыми менялами – так отчаянно я дергаю ее за юбку. Я очень взволнован картинкой и слова молвить не могу! Лишь продолжаю дергать материнскую юбку, но ей сейчас явно было не до меня. Мать всегда легко смущалась, щеки то и дело вспыхивали застенчивым девичьим румянцем. Удивительно ли, что менялы своими двусмысленными шуточками уже успели вогнать ее в краску!..
Рука материнская тянулась ко мне, как к спасательному кругу. Наконец нашарив мое плечо, мать крепко прижала меня к себе. Или, скорей, сама прижалась ко мне, точно я мог быть ей опорой и защитником!
Зеркало не зеркало… Матери сейчас было все равно. Лишь бы уйти от этих менял и их смутительных разговоров… И вот оно, зеркальце, в моих руках!
Огородами, узкой, почти в одну ступню стежкой-тропинкой, друг за дружкой, чтоб не наступить босыми ногами на расползшиеся, как змеи, плети тыквы, с майдана возвращаются мать и увязавшаяся за нами соседка Олэна. Они толкуют о чем-то своем, а я плетусь сзади. Мать я всегда и во всем ревную, а сейчас и про ревность забыл. Любуюсь не налюбуюсь картинкой на зеркальце. Останавливаюсь, смотрю на картинку, потом спохватываюсь, бегу догонять мать.
Кабаки на огородах в самом цвету. Среди больших лопушистых и наждачно-жестковатых листьев откровенно выставили они свои желтые, словно большие мохнатые шмели, кубкообразные цветы. Может, я впервые вижу, как цветет кабак? Или впервые вижу так отчетливо? Сочная зелень листвы и ярко-желтые цветы. Но главное, – эти же два цвета и на картинке зеркальца! Правда, на ней изображена не тыква, а несколько кленков на лесной опушке. Деревья – в желтой листве, а трава только кое-где тронута желтизной.
Я вдруг чувствую острую тоску о каком-то неведомом, ярко-красочном и празднично-прекрасном мире. Я плачу, бегу к матери, чтобы молча ткнуться лицом в подол ее юбки. Мне стыдно своих слез.
Мать пытается заглянуть мне в лицо. «Что такое? Ну что случилось?»
Я еще сильнее прижимаюсь лицом к ее коленям.
Мать озирается, как бы ища невидимого обидчика моего, и, вздохнув, пожимает плечами. Сконфуженно переглядывается она с соседкой – та тоже молча пожимает плечами.
– Чудной он у тебя, Нина. Какой-то не такой, – говорит матери соседка Олэна. Мать гладит меня по голове, на соседку не смотрит.
– Уж какой ни есть – на базар не несть…
Олэна обиженно поджимает губы. В словах матери ей, наверно, слышится укор ее бездетности.
В узкой прогалине между ивовыми пряслами плетня – перелаз. Вместо калитки эта перекрещенная и сдвоенная скамеечка перелаза надежно охраняет двор Олэны и Симона, наших соседей. Ни чужая свинья, ни поповская шкодливая коза не забредет в их огород. Соседка заносит ногу на перелаз – я вижу ее тугую, загорелую икру. Она холодно прощается с матерью. Мать с жадностью подхватывает меня на руки, прижимает к груди и целует, целует… Глаза материнские близко-близко у моих глаз. Какие они счастливые! Что это вдруг с мамой? Почему она так неистово прижимает меня к груди?
Я вспоминаю про зеркальце, которое держу обеими руками, про грустную картинку, но все-все, как высокой волной, захлестнуто материнской любовью.
…У обочины дороги наткнулись мы вдруг на пригорок, усеянный земляникой. И вроде бы ничем не примечательный пригорочек. И травы тут не меньше, и солнца не больше, а сам пригорок не выше, чем в других местах, но чуть ли не из-под каждого листочка, то стыдливо потупившись, то с озорной зазывностью, выглядывают пунцовые с белыми щечками ягодки! Земляничный дух веет над полянкой. Почему здесь столько ягод, а в другом месте ни одной?
– А что людям, что ягодам – вместе веселее. Живое о живом думает, – говорит мать. – Сам на себя никто не нарадуется.
И как ни увлечен я земляникой, теплой от солнца – и от этого особо сочной и ароматной, запоминаю слова: «Живое о живом думает»; «сам на себя – никто не нарадуется»; они мне нравятся, хотя не совсем понятны. И все же чувствую в словах этих сокровенную тайну; и звучат они волнующе-торжественно и удивительно складно!
Не зря, видать, взрослые произносят подобные слова с такой значительностью в лице и в голосе! Я стараюсь запомнить каждую пословицу, еще и не зная, что она – «пословица». Но не всегда, видно, я ее к месту вспоминаю. Ведь то меня хвалят, то смеются…
Ягод столько на поляне, что дух захватывает. Мне рук не хватает. Рот полон сладкой мякоти и сока. Жаль Андрейки и Анютки здесь нет!
– Не жадничай, сынок, – говорит мне мать. – Каждая ягодка тебя все лето ждала, красоты от солнца набиралась. А ты горстями… Как поросенок… Надо уважать красоту, ведь не зря она дадена! Бог все кругом делает и полезным, и красивым. Значит, от доброго не бегай, худого не делай…
Я стараюсь не жадничать, степенно кладу в рот по ягодке-другой.
Искоса поглядываю на мать. Она не спеша рвет ягоды, растроганно приговаривает: «Дар божий! Красота-то какая!» А лучшие ягоды кладет на ладонь, растроганно смотрит на них и отдает мне.
Я тоже с румяными ягодками на дне ладошки-ковшика спешу к матери. Впервые чувство радости – «отдавать», а не «получать».
– Эх ты!.. Обезьянка, – смеется мать, не принимая подношения. – Съешь сам – и пойдем. Полакомились – и довольно. Оставим и другим. Не одни на свете живем!
Мать берет меня за руку, мы выходим на дорогу, над которой вьются ласточки, черно-белые, стрельчатые, легкие и прекрасные! Замысловаты и причудливы их росчерки в пронизанном солнцем воздухе.
Я нет-нет оглядываюсь на поляну. Мать понимает, что я борюсь с искушением. Она улыбается, задумчиво щурится и показывает мне на ласточек.
– А она зачем? Для красоты или для пользы? – спрашиваю я.
Мать молчит, задумалась о чем-то своем. А может, и не знает, что сказать мне.
– Ласточки… Они, сынок, для радости… Все на свете живет для радости. И злые люди оттого и злые, что красоты не видят. И все кажется им: радости для них мало на свете…
А это – о ком? Не об отце ли?.. Ведь кроме отца, мать никто не обижает. Она сделалась задумчивой, и я больше ни о чем ее не спрашиваю. Мать вообще, заметил я, имела привычку – вдруг задуматься. И тогда она вместо слов лишь крепко-крепко прижимала меня к себе. Иной раз слезу смахнет с ресниц. Минуту-другую мы так замираем без движения, затаив дыхание. Слышно лишь как сердце бьется; будто на двоих у нас одно переполненное счастьем сердце, вместившее одну и ту же тревогу, растроганность, нежность; одна и та же кровь бежит по нашим жилам, неся тепло жизни и любви. Выразительно, полно значения материнское молчание, озаренное грустной улыбкой приязни ко мне. Я смущенно – снизу вверх – смотрю на мать: доверчиво, с любовью, в тревожном ожидании.
– Не надо, мама… не плачь…
– Что ты, дурачок! Разве я плачу? Это – так. Слезы сами льются…
Я лежу на полатях, укрытый кожушком. Никак не уснуть. Однообразный, клокочущий, как при полоскании горла, храп лежащего рядом отца ничуть не занимает меня. Не ново и завывание ветра под стрехой, на чердаке, в печной трубе. Изредка где-то далеко пролает собака, тут же голос ее оборвется, уносимый ветром, – точно замерзая на морозе. Когда горела лампада, все же веселей было засыпать. Но кончилось давно у нас конопляное масло, кончилось, как и кукурузная мука, из которой мать еще недавно варила в круглом чугуне пахучую, горячую и сытную мамалыгу. Ах, что за мамалыга! Желтая-желтая и крутая – не давалась даже острому складному ножу, который отец носит в кармане «на привязи». К ножу мамалыга прилипала, как смола. Зато как она покорно слушалась суровой нитки! Согнутые полудужьями руки отца мне напоминали лук, а натянутая нитка – тетиву.
Кончился зеленовато-розовый горох, за мутным и цельным окошечком каждой горошины которого, точно мышка в норке, жил, уютно скрючившись, золотисто-палевый жучок. И как он только туда забирался?..
Мать тянула до последнего – по горсти муки, чтоб забелить чугун затирки, полстакана пшена на тот же чугун кондёра. Он был до того жидким, что отец каждый раз угрюмо пошучивал: «Крупинка за крупинкой гонится с дубинкой». С маслобойки Терентия, где отцу иной раз пофартило поработать на подхвате (то у печи огромной жаровни, на которой томилось очищенное подсолнуховое семя, то у винтового пресса, с другими мужиками нажимая на две поврозь торчащие ваги), он приносил кругляки твердокаменной макухи. У меня кровоточили десны от впрессовавшихся в макуху остатков шелухи, но я грыз, грыз до одури макуху, дававшую смутную иллюзию сытости. Но куда хуже была конопляная макуха – она горчила, а нередко я корчился от страшной рези в животе. На всю жизнь потом голод примет облик и чувство этой горчащей конопляной макухи…
Мать и отец все эти дни ступают притихшие и угрюмые. Лишь я еще не представляю себе, что нас ждет голодная зима, что только миновали святки и что еще три месяца до весны, а дома – ни хлеба, ни приварка, ни надежды как-нибудь перебиться. Зато я знаю, как трудно уснуть, когда хочется есть! Крепко-крепко зажмурив глаза, – так, чтоб векам было больно, – я вижу, как из тьмы зыбкой сетью выплывают, светятся то красные, то зеленовато-золотистые, маленькие-маленькие кружочки. Они покачиваются, пляшут, хороводятся, кружат все быстрей и быстрей, не теряя друг друга. Это было давним моим открытием, и никому из взрослых об этом я не рассказывал.
…Я уже было задремал, когда раздался стук в окно. Сорванная ветром с сугроба и брошенная в низкое окно горсть снега не могла бы издать такой звук. Я толкнул отца. Тот заворочался под своим кожухом, поддернул на животе подштанники: от множества заплат отяжелевшие они то и дело сползали.
Ворча и поругиваясь, отец пошел отпирать.
У нас не было чего отнять, и мы не боялись воров. Наоборот, с человеком приходила хоть какая-нибудь надежда. Мать, накинув старую шаль, даже поспешила зажечь лампу.
А вот и гость переступил порог! Большой, весь в снегу, в пальто и башлыке, в сапогах и высоких галошах с пупырышками сзади. Я не привык ни к пальто, ни к хромовым сапогам и галошам, ни к башлыку. Видно, и человек, и вещи из того же, непостижимого для меня мира, который называется – городом. И само слово «город», каким я привык его слышать в устах отца и матери, исполнено было манящей гордой тайны. Шутка ли сказать, что, например, означали для меня одни только эти городские, неимоверно блестящие галоши!
Впервые я видел галоши на старшем сыне попа Герасима, на Сергее, который «учился на доктора». Учился, конечно, в том же таинственном городе. Галоши Сергея тоже невероятно блестели, в них можно было смотреться, как в зеркало! Нутро их было выстлано нежной ярко-красной байкой. Мне очень тогда хотелось погладить красную байку и черно-зеркальный верх галош. Не хватило отваги…
И еще я запомнил, что учителем Марчуком, часто захаживавшим к нам, с большой значимостью было сказано: «Скоро все в галошиках ходить будем!»
Гость развязал и снял с головы островерхий, гороховый башлык, негнущимися, скрюченными от мороза пальцами отложил воротник пальто, сверкнул очками. Очки тоже были признаком городского, чистого и образованного человека: ни на ком из наших мужиков, конечно, очков я видеть не мог.
Гость явно был смущен обстановкой. По поводу промозглого угла под потолком, который осенью был сырым, а теперь серебрился от инея, он даже губами причмокнул: «Ну и ну!..»
Потом началось окончательное раздевание. Отец, притопывая и пристукивая деревянной ногой, помогал гостю. Помогала и мать, правда, несколько робея по женской скромности. Принимая одежду из рук гостя и передавая ее матери, отец не упускал случая каждый раз сделать какое-нибудь замечание, дабы гость смог видеть, что и он, отец, знавал хорошие вещи. Так, например, он заметил, что «пальтецо – жидковато, из бобрика», что «на саквояжике надо будет протереть замочки, чтоб ржа не насела».
Чем больше отец старался придать себе солидности и независимости, тем больше получался искательным и робким.
Мать, как всегда, с первой минуты вела себя с гостем со спокойным и вежливым достоинством. Гость уважительно величал ее по имени-отчеству, чего не делал по отношению к отцу. А с ним все так: или «Карпуша», или никак!..
Узнав, что самовара и чайника в доме нет, гость великодушно похвалил мать за догадливость вскипятить чай в нашей большой медной кварте с двумя обгоревшими деревянными ручками.
…Это ночное застолье мне помнится в подробностях. И то, как гость возложил на стол буханку хлеба, извлекши ее из кожаного чрева саквояжа. И то, как затем рядом с хлебом положил сверточек в белой тряпочке – там оказалась фунтовка масла, похожая на большую картофельную оладью; как он ловко щелкнул блестящим ободком, захлопнув пасть саквояжа, перед тем как широким жестом пригласить всех к столу.
Я сидел на коленях матери и особо был горд, что гость своим ножиком собственноручно взялся намазать мой кусок хлеба маслом. Застывшее масло не мазалось, а лишь елозило, с прилипшими крошками перекатывалось по ломтю. Гость срезал с «оладьи» довольно толстый слой, столкнул его розовым ногтем с красивого перламутрового ножика на мой хлеб. По-свойски подмигнул мне: «Ешь!»
Отец и мать, после второго или третьего приглашения и положенной по неписаному деревенскому этикету выдержки, приступили к полночной трапезе.
…Тогда впервые в жизни я отведал сливочное масло. О, это был особый вкус, усиленный во сто крат голодом, всей сказочной обстановкой. Или разве что во сне такое могло привидеться!
На третьи сутки гость ушел из дому. Ночью, так же внезапно, как и пришел. Но два дня моей жизни были переполнены им.
Помню его белые руки с чистыми розовыми ногтями и белыми, изящными луночками. Чистое, не мужицкое лицо с красноватыми склеротическими жилочками. На госте были темно-синие галифе, такого же цвета гимнастерка, стянутая кавказским пояском с поперечными короткими ремешками в чеканном металлическом наборе. Когда гость выказал полное равнодушие к самогону и политике, и, несмотря на очки в серебряной оправе, на весь бесспорно городской вид свой, все же разочаровал отца, тот демонстративно улегся на полатях, укрылся кожушком и вскоре захрапел.
Гость стал играть со мной, причем так увлеченно, точно он не был взрослым, а моим ровесником – вроде соседских Андрейки или Анютки. Они в эти дни тоже не отходили от гостя. Из простого шпагатика он научил меня делать, вместе с ним, в четыре руки, – «ручеек» и «кроватку», «бороду» и «мост», и даже «стол» и «печку». Снимая друг у друга с пальцев одну фигуру, мы превращали ее в другую.
…Мать спросила гостя, есть ли у него дети. Вздохнув, он сказал: «А как же!» И, подняв глаза, добавил: «Четверо сорванцов. Кормить надо… Что только ради детей не приходится делать!.. Когда-то на сахарном заводе работал… А где он теперь – завод?»
Я досадовал на мать. Гость, игравший с нами – со мной, Андрейкой и Анюткой – в «лопаточки», после вопроса о детях вдруг сделался угрюмым, отложил свои «лопаточки»: «доигрывайте без меня».
Долго он рассказывал матери о детях своих, о трудностях семейной жизни, о больной жене. За игрой я не запомнил подробностей о семейных делах гостя. Он задумчиво поглядел, как мы увлеченно играем, и опять заговорил с матерью.
Я до того привязался к гостю, что ни на шаг не отходил от него. Я был признателен ему и за игры, которым он обучил меня и друзей моих, и за городские песни, напеваемые им вполголоса, а главное, что он осветил своим присутствием нашу нищую хату, превратив эти два дня в праздник: отец с матерью не ссорились, топилась печь, в горшке булькало варево; на столе, рядом с остатком буханки, лежала золотистая селедка в бурой, перегнутой по диагонали бумаге с мелкими щепочками древесины. Я знал, что селедка, пшено в горшке и полмешка муки в подпечье, там же, где прятался саквояж, все это было куплено мамой в лавке Йоселя на деньги гостя. Не ускользнуло от меня и то, что постоялец не взял у матери сдачу от «солидной бумажки», как сказал отец.
…И снова из подпечья был извлечен чудо-саквояж. Из него гость вынул какие-то коробочки с красивыми наклейками; из коробочек извлек коробочки поменьше. А уж в тех – точно в сказке – обитали чудесные блестящие существа, тонкие и стройные, как солдатики на картинке. Это были иголки для швейных машин.
Раскладывая свои коробочки, гость напевал странную песенку, которая мне казалась тоже городской:
Русы косы у моей сестрицы,
Ста рублей до-ро-о-же каждая косица –
По копейке каждый во-ло-со-ок…
Да, ночной гость не был ни заезжим лектором, ни волостным милиционером, ни губернским партработником. Это был обычный «добытчик», кормилец семьи. Вполне вероятно, что ради своих швейных иголок он и переходил границу, становился контрабандистом. Сколько их тогда было! Красноармейцы-пограничники ловили их целыми пачками…
Чего дожидался он в эти два дня? Еще более сильной метели? Безлунной ночи?.. Успев изучить досконально и самого постояльца, и содержание его саквояжа, я с некоторой долей разочарования установил, что оружия у него не было. Ныне я с удовлетворением отмечаю это обстоятельство. Не хотелось бы, чтоб оружие омрачило одну из сильных детских влюбленностей…
Причудливо, как тропинки в лесу, то сбегаясь, то разбегаясь, пересекаются в жизни человеческие судьбы.
Я очень любил зимние вечера, когда горела наша пятилинейная лампа, отца не было дома, и мать по этой причине была веселой и особенно ласковой.
За окном завывала вьюга, а в печи уютно потрескивали сухие подсолнечные бодылья.
…Мать, печь, лампа – и я. Любовь, тепло и свет – три начала жизни. Начну с нашей лампы. Благодаря ей я мог не только чувствовать, но и видеть. Тень от лампы падала на потолок большим темным кругом. Душа лампы была для меня загадочной, но обладала особой притягательной силой. Я чувствовал: души вещей – за редким исключением – были добрые.
…В середине темного круга на потолке роился светлый круг, поменьше и весь подвижный, беспокойный. Я часами смотрел на этот круг. Неторопливый рассказ матери, и подвижный, полный копошившихся света и тени круг, как мне казалось, состояли в какой-то неуловимой для меня связи, рождая ощущение времени, без начала и конца.
Я не мог понять, почему неподвижная лампа и задумчиво-отрешенный двурогий язык фитиля отбрасывали на потолок подвижный круг темно-оранжевого света, весь зыбкий, вращающийся, точно водоворот…
Керосиновая лампа – одно из моих первых сильных удивлений. Это было чудо для меня куда большее, чем, скажем, автомобиль или телевизор для нынешнего ребенка. И подобно тому как современного мальчика занимают марки телевизоров, сложных, дорогих, цветных и всяких, меня занимали разные лампы. Отличались они линейностью. Чем больше линейность – тем лампа дороже.
У нас в хате светила пятилинейная лампа, в лавке Йоселя – двенадцатилинейная!.. А были, прямо-таки, роскошные лампы. Например, в поповском доме – светила лампа-молния, пузатая, как сама попадья Елизавета, вся из яркого голубого стекла с рельефными красными розами.
Лишь много лет спустя узнал я, что «линия» – старая русская мера длины, около двух миллиметров. После этого уже не трудно было догадаться, что линейность лампы зависит не от размера самой лампы, даже не от диаметра стеклянного колпака, как уверяли мать мою и отец, и учитель Марчук, а кто бы подумал – от ширины фитиля!..
Приковал мое внимание клочок газетной бумаги, которым отец заклеил стекло лампы. Стекло было не просто треснувшим, а уже с дырой от вывалившегося куска. Бумажная заплата сперва становилась палевой, затем коричневой, наконец, вся чернела и прогорала. На обуглившихся краях ее, как зарницы, вспыхивали золотистые искорки. Прогоревший клочок бумаги окольцовывался трепетной и все ширившейся красной, как кровь, ниточкой огня. Фитиль неистовствовал. Уже не лампа, на меня смотрел налитой пламенем зловещий глаз рока…
Хлебным мякишем отец сажает новую газетную заплату на стекло. Заплата опять прогорает – и все повторяется сначала. Хрупкость стекла, прогорающие заплаты… смутное, тягостное чувство непрочности бытия…
Стеклянный колпак лампы – мое первое понятие о драгоценных вещах. Это понятие для меня воплотилось в чистой линии профиля стекла, в его капризно-затейливой утонченности и хрупкости, а главное, в том, что «ни за какие деньги теперь не купишь стекла – ни в лавке Йоселя, ни даже в городе!»
Профиль стекла меня интересовал как-то особо. Через два десятилетия, занятый авиационной техникой, я снова встречу и опознаю этот профиль. На этот раз он будет гордо именоваться «трубкой Вентурри». Хотя служить он будет той же задаче: создавать своим сужением подсос воздуха…
Когда отца не было дома (он водил компанию с учителем Марчуком и с попом Герасимом, к которым ходил потолковать о политике, одалживаться книгой, наконец, в надежде на дармовой ужин), мы с мамой чувствовали себя кухаркиными детьми после отъезда бар.
Мы играли, смеялись, влюбленно жались друг к дружке. Помню, как швыряем на горячие угли в печь горстку моченой кукурузы, как зерна с треском «распукиваются» эдакими белыми цветочками. Иной раз «цветочек» громко выстреливается печью. Мы ищем его на земляном полу, под лавкой, под сундуком-скрыней, и это нас очень веселит. «Распуканная» кукуруза для меня была изысканным лакомством…
Затем мать сажала меня на колени, укрывала старой шалью и начинала рассказывать. Чаще всего это были любовные истории. Они кончались трагически. Невесты вешались, сходили с ума, травились беленой, спичками, уксусной эссенцией и даже высушенными пауками! Вероломные женихи уходили в солдаты и женились на богатых, на городских. Причинами таких роковых последствий, помимо мужского вероломства, были бесприданность, злая родительская воля и лукавые разлучницы.
В легких тесовых гробах я видел прекрасные лица несчастных молодиц, их румяные остывшие щеки. Над ними реяли, как дивные птицы, цветные ленты. Руки сложены на груди, свечка в желтых пальцах поверх белой кофты…
Истории рассказывал и отец. Рассказывал, конечно, не мне, а матери, гостям. Это были истории-притчи. Думается, большей частью отец их сам сочинял. Под какую-нибудь полюбившуюся мысль он и подгонял первопопавший «сюжет». Одна история, однако, отчетливо запомнилась.
…В каком-то селе решили мужички повеселиться. Как сказал отец: «Мешай дело с бездельем, проживешь жизнь с весельем».