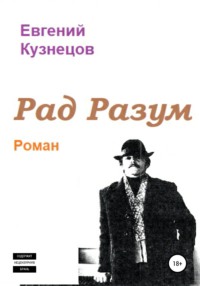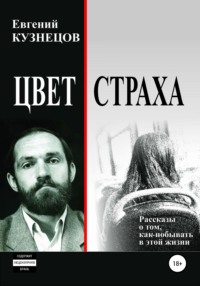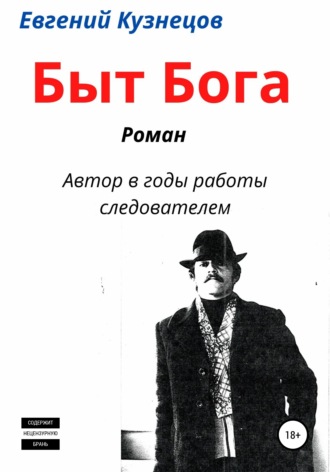
Полная версия
Быт Бога
Пришёл, вошёл тогда – все коридоры, хорошо или не хорошо – пустые, за одной дверью – разговор, смех и ещё такое странное, аж в него не верилось, знакомое щёлканье по столу, что я не решился постучать в ту дверь; за другой дверью – треск беспрерывной машинки, даже и от стука моего всё равно беспрерывный, а открыл всё-таки чуть дверь – тотчас и захлопнул: там лишь – густое, а густое – синее, а синее – дым, дым…
Пять лет, подумал, учился зря!.. Неужели я… причастен к этим этажам-кабинетам?.. Неужели смогу?.. Неужели должен быть причастен?.. Неужели буду?.. Да и… неужели хочу или хоть когда-то хотел к этому всему быть причастным?..
Остро вмиг ощутилось то, что при одном слове этом всегда и всегда ощущалось: "органы" – у "органов" у всех, как и у всяких живых органов, есть своё нутро, нутро!.. Коридоры коридорами. А есть ещё и нутро – Нутро!
И виновато-стыдно поначалу было вспомнить, что я – там, где я – я, – "правовед", на первом курсе хохотал, со всеми, впрочем, однокашниками, когда сказали однажды с кафедры:
–– Вы не должны ходить в баню. – Пауза громкая… – Вы как дети.
Как во время практики, на третьем курсе, иронично делился с друзьями-то:
–– Следователи, прокуроры, судьи пьют, но не поют, а когда напьются – плачут.
Но с радостью меня тут, в Здании, приняли… С радостью дали и тот стол, и тот стул, и сейф, и ключи, и – радостно-радостно – дело первое, памятное…
Советы казались скупыми:
–– Если на допросах зевает – он!
Засыпал в недоумении, с ворчанием и ворочаньем:
–– Ой, завтра срок по делу!..
Нутро то я чуял, чуял рядом, даже дурел от его силы и его близости, но Нутро то бурлящее всё-таки было где-то, где-то – всё не там, где я – я… Посадил, на первом ещё году, ещё учась, директора магазина "растущего" – и лишь недавно, во Время Крика, узнал, за что его так: он когда-то, давным-давно, однажды в райком двери открыл ногой…
Я просто добросовестный, наверно, был, да и всё, а уж "опера" уговаривают меня от них новое дело взять, просят начальство моё, мол, другой "завалит", поручить дело новое Вербину…
И начальство уж, видя, как я из одного "эпизода" с одним "лицом" делаю "кирпич", где чуть не десяток под стражей, доверяет мне очевидное:
–– Хватит, Петя! У нас и другие дела есть!
И прокурор корит с похвалой:
–– Сегодня твоих судили. И дела не читали. Что у тебя за почерк?.. Хорошо, все признались!
Дали после этого, кстати, мне машинку. И – новую.
Руку, и правда, скоро набил.
Лишь не раньше срока – только б не раньше ни на день срока по делу, как не мной заведено, дело заканчивать; а не успеешь в срок – «прокурорские дни» (дни, всем ясно, между следствием и судом), созвонясь с прокурором, надо прихватывать, ставить же везде "задним числом".
Поначалу-то на допросе свидетеля бланк вставлял-вынимал из машинки три раза: подписаться ему "за дачу ложных", перевернуть лист бланка, поставить время, когда допрос закончен; а теперь сразу всё сую подписать – и тут, и тут, и тут.
И вроде бы привык как нормальное слышать:
–– Пока это дело не закончишь, в отпуск не пойдёшь.
И вроде бы по-свойски в кабинете, в том или в том, со всеми, ближе к шести, запирался; и пьянства, суррогатной задумчивости, не было, а была настоящая:
–– О делах ни слова!
(И все – только о делах.)
Я даже, иной раз, бывал других находчивее: сапожник – в стельку, столяр – в доску, а – юрист?..
–– В норму!
… Почему я говорю эти слова?..
Себе?.. Но ведь если я могу их говорить, значит, мне не обязательно их слышать.
И всё-таки – мне обо мне.
А о чём же и о ком же?
Жизнь всё знает о жизни.
…А Нутро "органов" как было там, где оно было, так и было там, где оно было.
И – конечно, конечно!.. Я б, конечно, сам, сам – стоило бы Брата увидеть или хоть материал полистать – сразу же пошёл бы и сказал, что не должен, не имею права Брата опрашивать, потому что он мне – брат… Сказал бы тотчас!..
И не потому даже, что об этом, что опросил-то, могли узнать!.. Было, что ж, даже допрашивали чьих-то тут родственников… Меня разве что пожурили бы: эко – материал… А потому, что… это мне самому было бы… неприятно…
…Весомо жил, живу.
Сосредоточенно.
Словно бы всё улавливая: какое же у меня сию минуту настроение?..
…Да не хочу я, не хочу, чтоб обо мне хоть что-то знали. И даже про то, что меня хоть как-то касается!..
Я не хотел, да, не хотел, да, чтоб Брат ходил ко мне… Ни туда… Ни даже сюда…
Тем более, он… он – разговорчив…
И вот…
Брат не просто пришёл, а его при-вез-ли!.. Не только привезли – "доставили". И – по "факту"!.. Не только "доставили" – уже допрашивали!.. О-о!..
Рванулся я, рыча, в движение, вскочил, раскинул руки, закрыл глаза в холодном пространстве…
Возбуждённо хотелось опять немедля выбежать из теперешнего "сегодня" и вбежать в "сегодня" – в какое угодно другое!..
И не только допросили, но и… "задержали"…
Мой Брат сейчас… в Здании, в "управе".
В камере.
Сколько-то, до треска сжав глаза, прислушивался к себе, ко мне, – измождённо, измождающе…
Стыдно всегда слышать:
–– У вас такая профессия!
Стыдно теперь – что жалел раньше о таком стыде.
А как: вот я следователь, вот мой диплом, удостоверение, вот мой кабинет, ключ, сейф, вот я, изо дня в день, высекаю раз и навсегда "Следователь СО УВД", вот я с утра до вечера допрашиваю-обыскиваю-арестовываю… А между тем – полагаю, что следователь это… кто-то и где-то!.. Словом – есть где-то что-то особенное. И кабинет пограмотнее, и машинка почестнее!..
И потому это так всё для меня и во мне, что я… так, пожалуй, и остался непричастным к тому Нутру.
Неожиданное, бывает, узнаю о Нутре – то даже, что оно вообще есть.
Допрашиваю… Вдруг Папа вызывает:
–– Ты на кого работаешь?!..
И сразу же, не расшифровывая, "отпустил".
Словно б он услышал, как в воздухе раздалось: я там, где я – я, он там, где он – он…
И каждый любой так.
Едва же отчаюсь: я – самый настоящий следователь – жутко делается: неужель и у меня такие же, как у всех сотрудников, глаза – как у ныряющего в воде?!..
Не величественно живут, не величественно…
Дрожал, в брюках, в пиджаке, под одеялом…
Родители!..
Облапывают Брата в "дежурке": велят ему выложить всё из карманов, вытащить из брюк ремень… заворачивают мелочь, ключи от работы, от квартиры в бумажку…
А он – он стоит… Не бежит ко мне, не просит, не требует меня… Смотрит надменно и слепо – с уверенностью!.. Что я, его брат, знаю. Знаю!..
Я лежал, не ощущая, в какой позе… Я откровенно и чутко предавался тому, чему силился пока не предаваться…
Дрожание моё, ощущал, превращалось в дрожь как в некое вещество – и оно текло в меня как намёк на самое ближайшее моё будущее… И слышался уж какой-то словесный гул – неразборчивый пока, в отдалении.
У Брата листают его журналистское удостоверение… Брата хлопают по карманам…
А я?..
Родители – "убежденные", да ещё и учителя, школа моя и армия тоже, понятно, были "идейные"… И вот не мог же я быть просто так, без веры такой же – не мог, по крайней мере, родителям изменить!..
Я там, где нет обмана, предательства: если уж делать что-то одно всю жизнь, всю-всю, то – "приносить пользу".
А как же я, который – я?.. А так: пока я свое "я" блюду – вдруг да что-то грандиозно важное мимо проминует!.. Тем более, все, вижу, на свои "я" попросту плюют.
Да и что такое это "я"?..
Не у кого и спросить…
Во всяком случае – куда оно денется?..
Напропалую нужен выпад во что-то наиважнейшее. И – подтверждённое ощутимо ухом, глазом и логикой.
И вот я ещё солдат – а уж в "передовых рядах", сиречь партийный. А выпускник – туда, где бы всё сам, сам, с первой бумажки!..
Но вот – Время Крика…
Оказалось, всё прошлое – праховое.
И я – стал коряво говорить и весла поднял… (А каково родителям!..)
…Я – это: сам!..
Только и остается…
Истина всё равно невыразима.
Нет, выразима!
Истина – это потребность в истине.
…Легко и бодро себе ощущая, вдруг я встал – будто бы.
И будто бы передо мной какая-то дверь… А дверь та сама передо мной открылась. И не просто: в стороны двумя половинками, как в лифте. Зачем-то я вошёл. Дверцы за мной сдвинулись. Оказался я в комнатке совершенно пустой и достаточно большой… И само собой, опять же, было, что комната эта особенная… чем-то… И вот комната… качнулась… и странно качнулась!.. Она не поехала – как невольно ожидалось – вправо-влево или вверх-вниз… А она… она…
Стою я – а ноги мои вроде бы в одну сторону отплывают, а голова – в другую… Но я же лёгок и бодр, с чего бы мне падать?..
Э, да это комната… переворачивается!.. На месте переворачивается. Как коробка.
Еле, чтобы не упасть, перебежал я на стену!..
Стою, однако, теперь на стене, как на полу… Комната не шевелится больше. И вот дверь открывается, раздвигается – только теперь своими половинами вверх и вниз!.. Что ж, вернусь-ка в свою Комнату.
Вошёл.
Но Комната – та же… Но Комната… другая!.. Та же?.. Другая!..
Ощутил я, что рот мой приоткрыт, и губа верхняя подрагивает от возможности того, что называется улыбкой…
Я подождал, не дастся ли мне ещё что-то…
Но пустота опять проснулась: опять я дрожу, глаза мои закрыты, вокруг меня – Комната холодная, вокруг меня – первый этаж холодный, дом девятиэтажный, улица, Город… поля холодные, дороги пустые, другие города…
Я открыл элементарно свои, мои, глаза… увидел разводы на потолке…
У меня нет ни жилья, ни денег, ни карьеры… Но хотя бы…
Мать от калитки, в деревне было, кричит собаке на дорогу:
–– Веник! Веник! – Дескать, опасно там, много машин.
Ну, тот, на зов-то, и побежал к ней через шоссе…
Зачем меня родили?..
Я встал – теперь тягуче встал, стыдясь своих простейших движений.
Долго пил из холодного, с тумбочки, чайника.
Долго потом смотрел на тусклую искривленную комнату на боку стального чайника… Слёзы текли свеже-горячие, только что родившиеся где-то… Со школы из самовара чай не струйкой наливал, а кран выдернув – и так в жизни, думал, мало количества мгновений!
И я увидел то, что давно уже не хотел увидеть: не разводы на потолке это – а, вон, глаз и глаз, нос, рот…
И – в дрожь, как в некую хладную влагу, на миг окунулось всё тело моё… Потом стали мелко дрожать то живот, то икры ног…
Лик потолочный словно бы только чуть, как на фотобумаге, проявилось – размытые черты, – но видел я его уже сколько-то, в чём не сразу себе, мне, признавался… смотрел на него уже сколько-то… И он уже… смотрел на меня…
Один, и – один…
Ваня?.. Ваня!.. Всегда он, со школы, модное, самое модное на себе носил… А это ведь страшно: модный – в деревне!.. Беспощадно он был моден, беспощадно ко всем…
Ведь нет мира, который просто мир, а – не чей-то, не чей-то.
И смело сказал я тут себе, что глаза те, что чуть искоса на меня глядят, теперь всегда будут на меня глядеть.
Смело и рывками – под глазами этими не солгать! – ярко и пестро стали меняться передо мной мои мысли-картинки…
Нету мира, что просто мир.
В колонии "малолеток", на втором ещё курсе, лекцию, что ли, я читал – в бывшем, конечно, монастыре… В зал низкий большой сводчатый гусеницей – чёрной гусеницей, с белой, от лысых голов, спиной, заползать стала вереница отроков… мальчиков, мальчишек… с белыми ярлычками на груди… заполнять стала скамьи, начиная выстраданно-строго, с крайнего места на первой скамье… И – молчаливо!.. А те, что в форме, стояли и стояли – молчаливее были даже молчаливых.
Я же, с двумя ещё студентками, на сцене сидел – перед чёрной толпой, усыпанной белыми головами…
Студентка прилежная стала, слышал я, чётко чёрно-белому залу о "сторонах состава преступления"… Собрала, я видел, на руке свои, её, три пальца вместе, махала этой её рукой внушающе возле её головы – словно всё не попадала щепотью в её лоб…
Зал – ждал…
Говорила Прилежная для примера:
–– Итак, А убил Б из ревности…
И вопрос, после доклада, из чёрно-белого зала один только был:
–– Сколько ему дали?..
А мир – и мой, и чей-то другой, – если он не знает, что он – мир, страдает часто болезнью вхожести. Вхожести.
Раньше, года полтора тому, сидел я в кабинете с другим, со "стариком" – и к нему приходил-заходил-заглядывал изредка мужичок молодой, приятель его, что ли, по рыбалке – с бутылкой, конечно… Мне и задалось: а почему бы… не наоборот?!.. Вот бы следователь тот – или я! – и зашёл бы куда "просто так"-то!..
Или ехал я как-то с Клавой в троллейбусе, сидели рядом – и вдруг Клава задрала полу пальто её женского – показала мне юбку её милицейскую:
–– Пятно тут еле отстирала!
И в троллейбусе сделалось дисциплинированней.
А "люди" – тем бы хоть чуть стать вхожими или – будто бы вхожими… Пенсионер один – с выражением на лице, как ещё у алкоголиков, вечной справедливости – ни с того ни с сего принялся рассказывать мне, что у него в филармонии, где он настройщиком, завелась в трубе органа летучая мышь… Женщина другая в коридоре вдруг пристала ко мне:
–– Ты хоть отдохни, покури!
Стыдно, как спохватишься, вдруг становится – неужель к какой-то экзотической профессии причастен?..
Картинки-мысли, картинки-мысли…
И – боялся вспомнить даже… Ваня… Ваня ведь хотел когда-то стать… следователем!.. И он, школьник-выпускник, в городе самостоятельно купил себе плащ – светлый, как в интересном кино-то… Отец потом в этом плаще, из грубого брезента с капюшоном, – в светлом зато – только за грибами и ходил…
В Области, в прокуратуре областной, собачка Липка бродит, как уставшая, по этажам тихим – тихая, кроткая. Носят ей "работники" того здания жрать из дому.
Хоть она и не знает, где она, – с содроганием вижу, как она, скалясь, жует, глотает, облизывается…
И я – вхожий?..
Разве – в самого себя…
Задрожало снова всё целиком моё тело… тело, которое моё…
Внятные послышались голоса: сначала – начальника, потом – девицы, потом – друга.
–– Вот и иди в свои адвокаты!
–– Вот и иди к той спокойной!
–– Вот и иди к своим идеям!
А – то!..
Покуда я не понимаю, что я в мире, который – мой, я делаю то, что… можно. То, что можно.
Якорь не бросил нигде, ни с кем, ни в чём.
Потому что не бросил его в себе, во мне.
Вот нет, бывало, у меня курить – и ни за что не побегу, не надо, нарочно в магазин, а лежит пачка на виду – возьму, хочу или не хочу, и закурю, ведь – можно!.. Нету денег – и не думаю о них, а появятся – куплю то, о чём и балуясь не мечтал: просто – можно, можно!..
А если б у меня – вдруг – было оружие?.. А если б у меня – вдруг-то – была… власть?..
Жизнь это – можно, жизнь это – можно!
Страшновато мне давно поднять глаза, страшно смотреть по сторонам, ещё страшнее – видеть…
Зато – далось!
На "полиграфе" – на полиграфкомбинате был. Машина там есть такая… о, какая… для обрезания бумаги. На толстую пачку газет, на железном столе, вылезает сверху нож – длинный, блестящий… медленный… металлический… Он вниз и чуть вкось – и пачку толстенную обравнивает, как масла мякоть… Так нож тот идёт вниз тогда лишь – лишь тогда, когда с другого края стола нажмут на две кнопки и – одновременно, руками двумя, руками обеими, притом – разведёнными: кнопки так и устроены отдалённо друг от друга… чтоб существу с двумя руками нельзя было изловчиться нажать на обе кнопки пальцами руки одной, и вторая рука оказалась бы свободной…
Пробудиться изначально, пробудиться изначально!..
Старуха, видел, в лесу чернику берёт, стоит среди кустиков на коленях – и рот у нее платком завязан…
Пробудиться изначально!..
А – то!..
Отец мой – пошёл я с Отцом за грибами. Разумелось всегда – перекрикиваться… И едва вошёл я в лес… Заорёт как – как заорёт Отец в двух шагах от меня!.. Только-только ведь вошли…
Как заорёт Отец рядом, за кустами…
Тот крик стал событием в моей жизни.
Я тогда, прежде всего, вмиг ощутил, что я не в лесу, лес – это не страшно, а я – в ужасе. И узналось ещё, вмиг и вдруг, много-много о самом Отце и – о жизни вообще…
–– А-э-э-эй-и!..
Тот крик Отца – того, кто моя… кровь, порода! – был отчаянный, обречённый, даже иступлённо-отчаянный… Только сам он… не знал об этом. Отец не за грибами в лес пришёл, а – орать. Только он не знал, не знает об этом. Потому что он и вообще-то живёт, чтобы – орать, кричать. Всею своею, его, жизнью. И – смотреть по сторонам. И – хоть кого-нибудь видеть. И – учесть ответное. И – делать то, что делают другие. В смысле – большинство других. И ещё – лучше бы, для уверенности, чтоб за это деланье похвалили. По крайней мере – "не-сказали-ничего-плохого"…
Заорал Отец тогда толково, вдумчиво, с расстановкой:
–– А-э-э-эй-и!!..
Сердце, оказывается, стучало во мне слышно… И было странно, что оно какое-то такое, что оно – моё…
Глаза с потолка, спокойно-зоркие, зорко-спокойные… требовали договаривать…
И – что?
А – то!..
Я ведь и в следователи… тоже – побывать!..
На Брата, что ли, глядя поначалу?.. А всё-таки – побывать. Потому, кстати, и работаю легко. Потому что – временно!.. И в вузе был с лёгкостью, так как там всего-навсего пятилетнее пребывание, а не много… какое-то.
Побыл следователем – и будет. Я побывал в школе, в армии, в партии – и будет с них. Я поимел, на "шабашках" и в стройотрядах, "длинные"-то деньги – и хватит, я поносил дорогие "шмотки" – и хватит. И будет с них со всех и со всего прочего! Не заниматься же чем-нибудь этим всегда! Не отдавать же чему-то этому… всю жизнь!..
И – предданно ведь так. Не вечно малые годы, не всегда годы, что чуть старше, потом – не всегда, что ещё старше…
"Побыть"!..
Побывал…
Я – в колыбели…
Шевельнуться сейчас боясь, спугнуть боясь во мне меня, ощутил приближение начала, начала…
Я – в колыбели.
Никогда раньше я не думал об этом, но никогда, ни на миг, не забывал об этом.
Мне некуда больше пойти. Мне некуда – знал, не зная этого, всегда – случись такой день, как теперешний день, будет пойти… кроме как – в эту память, в память этого. И вот – пойти больше некуда!
Я – в колыбели.
Я – я, я – есть… Вот это, то, что глядит, не зная, что это называется "глядеть", не зная ещё что у него есть, чем глядеть, что то, чем глядит, называется "глаза" и именно его глаза, и при этом – понимает, что не знает всего этого, и при этом – не страдает от того, что не понимает всего этого! – это и есть я.
И я – есть. Есть!.. Хотя и не знаю, что есть такие слова: "я", "есть" – так как я, который я, вообще не знает слов…
Я только знаю, что я – я.
Зато я…
Зато я всё-таки знаю, что – я! И что я – есть!
Вот же, вот!
И я – одно понимающее зрение, веденье.
Словно я в этот миг открыл глаза… Словно до этого они, глаза, были просто закрыты… Будто бы я просто думал о чём-то другом, своем, моём, и вовсе мне дела не было, смотрю ли я вообще, – а тут вдруг попросту поймал себя на том, что и смотрю, и вижу.
Я смотрел – и мне дела не было, что у меня есть, чем смотреть, что у меня, кроме глаз, есть ещё целое тело…
И я – который вот такой – вижу, что вокруг того места, где я, – белое: белые – как теперь знаю слова-названия – стенки, простыни, занавески, и я – словно в белой матерчатой ладони… А там, вверху, над гнездом-ладонью – свет, светлое…
И в свете том из-за края белой простыни показалось что-то – лицо, и оно – туда, где я, показались руки, и они – туда, где я…
И лицо, и руки – они туда, где я. А не ко мне.
Но мне всё равно хорошо.
Хотя я ещё не слышал от себя слова "мама".
И я ещё никогда не видел то, в чем это самое "я".
Я – одно зрение понимающее. Я – это состояние.
А если…
И если я тогда, младенец, в колыбели, знал, что я – я, что я – есть, то… значит – значит и значит! – я… был… Был и до того, как в этой белой ладони очутился!.. Я – был! Был! До колыбели. До белого, вокруг меня, света.
Где я был… Когда был… Почему был… Сколько был…
Как был…
Но – был.
А потом – потом, когда меня научили ходить и говорить, я стал ходить и спрашивать, кроме всего прочего, почему и зачем я здесь, в жизни? Потому что – увы! – я увидел уже и разглядел своё, моё, тело и – увы! – приучен был уже считать, что оно – я…
Щекой на подушке нашёл мокрое, но было мне так, словно плачу я привычно, сладко-привычно…
Да, до сих пор не знаю, почему и зачем я тут – в теле, в костюме, на кровати, в Комнате, в доме, в Городе, на Планете.
Потому что не знаю, не понимаю, зачем спрашивать – об этом, об этом.
В колыбели – в Колыбели ведь не было настроения спрашивать, не было состояния вопроса!..
Я – это состояние такое: я – я, и я – есть. А что не я – это не я. И это состояние было неопределимо сколько и, значит, продлиться неопределимо сколько.
И надо его следить.
Я – я ли? Каждую минуту.
И если даже в Колыбели у меня не было, и – прежде всего, вопросов, то это состояние надо назвать, коли я всё-всё обзываю, – Умиление.
Оно-то – неопределимо сколько.
Я, который я, – в умилении ли?..
Я-состояние, я-умиление – засыпано движениями и словами.
И радостно чуть стало: нет ни Комнаты, ни Города вокруг меня, а сейчас вокруг меня – моя мысль.
Общезнаменательно и думал.
После Колыбели я, за игрой, словно бы забыл, что я – я.
Иногда лишь – в обиде или в любви – вдруг замечал: я, в отличие от тела, которое моё, – особенно я… И если хоть чуть помню Колыбель, я – в состоянии себя, меня.
Первые времена, что зовут словом "детство", замутили всем спешным: с наружи, чую, я зверёк зверьком, внутри – будто спросонья… Учили выговаривать букву рычащую – и я, конечно, хотел стать мор-ряком… Потом – отрава отрочества: снаружи – яркий сон, внутри – пёстрый сон… А в юности стал и я сам на себя посягать: где и кем, и как – "полезнее"-то – быть…
И всё делал то, что считали важным другие – пусть и любимые родители и вожди.
Красиво говорил себе ещё недавно:
–– Надо наполнять мир своим миром.
Время Крика меня окрикнуло: у кого как, а у меня – мир мой.
Вот тебе его и… наполнили…
Твой-то мир. Их-то миром.
Расслабленно я, расслабленный, подумал-понадеялся, что меня за ту Колыбель и за нежность к ней… пожалеют… Всё-то я так: нежничаю и надеюсь…
Спросил окружающую холодную ясность безразлично-устало:
–– Что ж – все? И – так? И – на меня?.. А то, что я… молчал!
Оказывается, есть, вижу, – там, где меня нет, – правила два; первое – молчи: это одно, по разным причинам, для всех хорошо; второе – молчи: и каждый припишет своё, его, по его мнению, хорошее… тебе. Молчи – и вот ты уже настоящий мужик, мужчина, настоящий человек, гражданин, товарищ, кавалер, и всё – одновременно, и даже – для врагов.
А лишь открой рот:
–– Ты вот других-то критикуешь!.. А-а… – И так далее.
…Я не люблю обманывать.
Так – виднее.
…Что ж, слушайте, вы – там, где вы все есть.
Я никогда, ни разу не брал даже пальцами жевательную резинку… не держал в руках какую-либо инвалюту… не видел ни одного порнофильма… И – да! – ни разу не стрелял боевым, ни разу никого не ударил.
Я жил и живу там, где я – я. Я в мире, где я живу. Точнее, в мире, где живу – я!..
И – слышу наконец о себе, обо мне… О Петре-то Дмитриевиче:
–– Митя…
"Митя"!..
Как расковырять-то меня, меня, меня… всем, всем, всем… хочется, хочется, хочется… Пусть и сломать – а лишь бы заглянуть внутрь!..
О-о!.. Будто стих мой прочитали, что когда-то сочинил, даже не записав… И – вслух. И – всем. И – громко…
Грустно.
Жизнь – одна, миров в ней – много.
Грустно.
Дрожал весь…
И стал думать, что ведь надо что-то… думать!..
Неужели – неужели я не заслужил о себе даже… мнения?..
–– А зачем оно тебе?!..
Спросил меня так кто-то где-то дрожащим твердым голосом – спросил Дрожащий.
Я дрожать перестал.
И снова раздалось:
–– Все вчера жевали диамат, а сегодня все жуют резину.
Убивающе отчётливый голос…
Глазами хотят знать – видеть.
Хотят глазами знать. Знать глазами хотят.
Телом сытые, глазами хотят жрать – видеть.
Женщина стоит на арене.
Глазами хотят знать, дрожь на груди мелкая, глазами знать, губы сухие липкие, глазами своими, кулаки потные, глазами.
Тигр бежит по песку.
Глазами!
Крика она не слышит своего за криком стадиона.
Видеть-знать хотят – это.
Чтоб они могли увидеть, ещё и ещё раз увидеть это – тигра морили голодом, рабыню привязали к столбу.