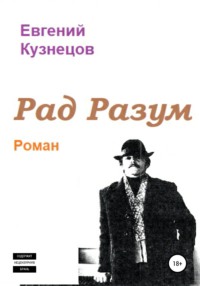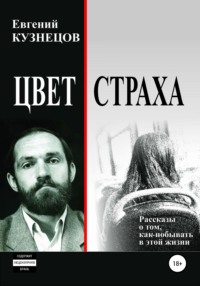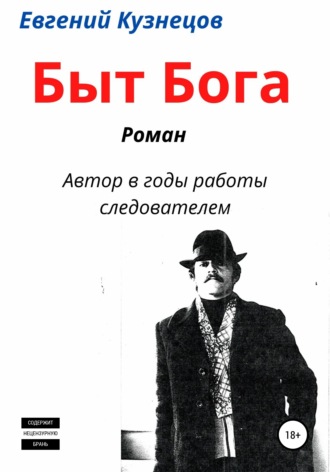
Полная версия
Быт Бога
Я живу в мире, в котором живу я. Не в котором я – живу. А именно – в котором живу я!..
Пошли на обед – быстры или долги были эти полдня? – Маня Кабинет стал запирать сам: всегда-то я запирал… А я, чуть шагнув, в коридоре ощутил волнение идущего по одной доске – волнение от скрытого волнения: ведь буду сейчас, в столовой, у всех на глазах!..
Там, и верно, ощутил: на каждое моё телодвижение – по целому кодексу.
Сели с Маней, само собой, за один столик – но он, перед тем как поднос свой поставить, покосился-таки на столик соседний…
Маня в начале, было, стал меня дисциплинировать: хоть и не пьёт и не видно, что выпивает, но намекал на "бутылку" и на мои вопросы по работе отвечал, для значения, паузой. Я же начал демонстративно спрашивать у всех входящих, и он стал победно отвечать первым, чуть не раньше моего вопроса.
В столовой были бряк и стук, бряк и звон… В тарелке моей было всего лишка…
Всё казалось, что всем слышно, что я думаю.
Я бы тоже болтал:
–– Теперь такое расхлябанное время, умудряющее…
Не бывает никакого "такого времени"!.. Есть всегда одно время, одно – в котором живу я, в котором живу я!
Маня раньше ложку салфеткой протирал и всё про гарнир – сегодня же молчал, а протирая, покраснел… И ел как-то умело.
И будто на всю столовую говорилось сейчас: ведь я – пусть и сам лишь для себя – Маню зову Маней: его, Статова Михаила Михайловича, старшего лейтенанта, зову Маней! Так – по мне – вернее, правдивее. А Березину зову Томная. В себе-то. Свищёва, правда, Свищёвым… Но уж вон того тактичного Милонова – Выхоленком… А у кого-то, вон у того, даже и фамилии не знаю: для меня он то Ляпин, то Авосюшкин… Имена и названия новые почти всему и всем тут подобрал. И не только тут…
Маня – там, где он ел, – убежал, не доев… Все – там, где были все вокруг, – силились на меня не смотреть…
Поодиночиться чтобы, я надумал повестку, что ли, на завтра одному "человеку" домой отнести.
И, одевшись, не на мартовский снег и ветер вышел, а именно – после начала Крена вышел…
По твёрдой Планете пошёл ощутимо.
И то, что сейчас случится, интересно уж мне теперь было до волнения…
Прохожий так называемый – он там, где он по своему, по его делу, как он думает себе, идёт… Во-он! Далеко он ещё… "Прохожий"! Слово-то какое… И вот, шагов за пятьдесят, уж, вижу, чуть глянул он вперед, будто бы просто так, сам того даже не заметив, а всё-таки – на меня, на меня… Мол, кто там, впереди-то, кто?.. И идёт себе опять и идёт, словно и не глядел только что и словно не предстоит сейчас ему сблизиться со мною… Но шага за три до меня – подымет глаза! Подымет, небось… Подымет сейчас…
Какое всё ж таки строгое приказание – сегодня впервые ощутил – слышат и мои верхние веки!..
Вот он и поднял.
А как же иначе!.. Он ведь всего-навсего считает, что вышел по какому-то там делу. А оказывается, он – как и все – для того лишь и выходят на улицу, для того лишь и ходят по Городу, чтобы – посмотреть, посмотреть на меня, на мои глаза!..
Целовались вот на остановке девушка и парень ртами, а когда разомкнулись – таки поглядели в сторону-то, на меня-то!..
О, как мне всё ведомо…
Самое больное это нынче моё больное!.. Только тут, на улице я, признаюсь и признаюсь, и посмел подумать так.
Посмотреть друг другу в глаза означает целый поступок совершить.
Будто бы просто мельком брызнул вот этот на меня своим взглядом: чего уж, мол, там – все мы одной разрешимости. Сам же он, лукавя от всех и от себя, сказал мне, да, сказал: вот – я, я – вот, видишь ли меня? – в жизни, как, вероятно, и ты, и я попал сюда, в жизнь, для одного – побывать, побывать, и что это значит – не знаю, и я занят только одним – перебываю, перебываю жизнь, и для спокойствия – как большинство, но верно ли перебываю – не знаю; так вот хотя бы сверюсь, глянув тебе в глаза, по тебе: а ты – для того-то лишь ты мне и нужен! – как, ну, а ты, как ты?!..
Мало того: я, прохожий случайный, хоть и не знаю, почему и зачем живу, я ещё и из своего мирка посягаю на тебя – призываю жить по-моему!..
И миг единично-ценный у меня отымают.
Такой-то он, Прохожий, тотчас забывшийся!..
Это лукавство меня раздражает, досадит!.. Я уж нарочно, в отместку, нарочно гляну в сторону – и он… туда же, дурдур, повернётся.
Толкают меня, задевают меня, кричат на меня, говорят мне, косятся на меня, шепчутся обо мне, оглядываются на меня, подслушивают меня – это я знаю-чувствую с самого мальчишества раннего…
Разве есть у меня какая-то дума, знание, догадка?..
О, вроде бы я ко всему и ко всем всерьёз всегда – и от всюду и от всех всегда ухожу.
Не люблю транспарантов, теле и газет: все-то их в миг в этот лапают глазами!..
Люблю – идти, идти – люблю: в ходьбе слышней моё право на одиночество.
Ветер, ветер какой сегодня новый!..
Она – она сегодня ко мне опять заходила. Зашла, вышла. Пусть и так.
Самое великолепное явление природы – счастливая женщина.
Или я, почему-то виноватный сегодня, оправдываюсь?..
Я заслан не в Город и даже не на твёрдую Планету – я сам есть и орган, и город, и планета, – а я заслан в тело, которое почему-то моё.
Побывать, перебыть…
Далось же мне так это: ходил дворами, дворами ходил.
И голова поначалу, было, от этой очевидности закружится.
Увидел я тут, как собаки, метались, замирали, и одна – величиной с кота.
Не хочу я это видеть!..
На фото в киосках теперь запросто могу я видеть: двое – голые и отличаются только тем, чем отличаются, и занимаются они, двое, тем, чем отличаются…
Да не хочу я этого видеть!..
Мир делится не на страны, а на странные души.
Вернее – не на стороны, а на сторонние души.
И бреду, чую, сквозь дымки чужих душ.
И всё я теперь через дворы, всё наискосок, всё – прямо. Даже – сквозь иной дом, который с аркой. То-то, матёрый горожанин.
А поначалу – смех: ходил по улице до перекрестка.
Дойти до угла – до угла дойти так: тарелку – доесть, книгу – дочитать, вуз – окончить, для распределения – жениться, для квартиры – родить, для должности – перевестись, для следующей – вступить в партию, для стажа – терпеть.
Ходить же дворами – быстро и… невидимо.
Встал я тут и загорелся ощутимо…
На обыске недавно – и увидел я на полке корабль, и с парусами… в бутылке… О, в бутылке!..
Раньше бы промолчал, а теперь, во время Крика, всё равно терять нечего, раз уж "ну, теперь – всё!" – и привязался я к хозяину: растворяя, сам жалея об этом, профнапряжение:
–– Как можно было бутылку сделать, изготовить, вылить на корабле, вокруг корабля?..
Хозяин заулыбался, но – со страхом, почему-то ещё и с большими страхом… И он, и "опера" стали вместе – пренебрежительно вместе! – кое-как давать мне понять, что – наоборот, как-то наоборот…
И не сразу я – там, где я, – понял, что это за "наоборот":
–– Корабль собрали… в бутылке?!.. А… зачем?.. Зачем именно в бутылке?.. Ведь в ней… труднее…
…Я не живу в мире, в котором нету меня, меня.
Я не живу в мире, где консервная банка в лесу, окурок на асфальте, избитый ребёнок, обиженный старик, загаженная река, истоптанная луна…
Я знаю лишь про это… Но – я не живу там!..
Потому что – в самом деле не живу.
Увидел я в чёрных вдруг женщин в платках! – Навстречу мне, посягая на меня, они, ругаясь и призывая, быстро шли…
И будто они такие и так – по поводу гроба вчерашнего: вчера у подъезда у одного, тоже так же на меня посягая – чтоб я видел, чтоб видел – крышку красную выставили с лентами с чёрными…
Старушка вон терпела свой горб – всегда-то мне – там, где я, – старухи попадаются! – и дурманяще ясно уверился я, что это ведь… про неё и тот гроб, и те платки!..
…Здание я увидел – и словно бы увидел его вдруг, так как лепетал:
–– Вижу, все ходят по магазинам, по друзьям, по аллеям, а я – хожу по самому себе.
Радостно, было, вспомнил деревню…
Но Отец там однажды, тоже вспоминалось, сказал:
–– Мы с Иваном баню рубим.
А рубили-то – втроём!.. Отец, брат и я.
Да ладно…
Часы за браслет из кармана. Как однажды – в начале Времени Крика – их с руки снял, так больше и не надевал: ношу, с тех пор, в кармане.
Шагов уж за несколько до Здания точно и горько ощутил, что я… таскал его, это Здание, сейчас в себе, с собой, во мне, со мной…
С тоской признался себе, что хочу, чтоб Мани в Кабинете, разумеется, не было.
Тут же Красивая – я увидел её, посмотрев спокойно на неё, – вошла. Кивнула… О, какая она всё-таки… незамужняя!.. Брала бланк – двигалась сегодня влажно, затянуто… А обычно – дерзко хлопнет шкафом.
Верно и зорко смотрела на меня одним лишь мелким родимым пятнышком на её шее под её ухом.
Походя, по привычке, во мне затикало: она – женщина, то есть думает определённо.
И вдруг благодарность в себе, во мне, ощутил… За ту её дерзость, и за сегодняшнюю её медлительность.
Но и Томная – и Томная тоже тут вошла!.. За бланком-то.
И Красивая, уходя, хлопнула-таки дверью.
Вспомнил я вдруг: однажды Томная приходила с подругой, которая будто бы просто с нею… Чтоб на меня посмотреть.
Зашли тогда, вышли…
Я встал, наказанный.
Томная пошла, ожидая окрика…
О, невыносимо сегодня ко мне требование игры и слабости!..
Иной, слышу и вижу, чуть взял трубку:
–– А, это ты…
И во мне – зависть, что нет у меня такого права: столь небрежно-понятливо откликнуться на более чем знакомый голос.
Но нет у меня и такой обязанности: именно небрежно-понятливо отозваться на единый факт пусть хоть одного дыхания в трубке. И во мне – гордость уцелевшего.
Говорила, руки в бока, женщина мужчине:
–– Подай собаке лапу!
У хозяев – они, как и я, были тогда в гостях – была собака та.
И я, помню, понял: какое счастье, что никто на свете – никто, ни одна – не может этим восклицанием адресовать мне мстительного намёка:
–– А то…
Мой!
Моя!
И у меня сохнут губы – лишь от возможности-то такого моего ужаса.
–– Никому не достался! – старуха-старушка сказала, хозяйка, когда я, студент, съезжал с её квартиры в "общагу": к ней то и дело чай пить ходили – посягая-то – две внучки…
…Я стыжусь быть чистым.
Совершенно чистым.
Мне о ней, о чистоте, не говорили, не говорили мне – о ней.
Никогда, никто.
Но я знаю о ней.
Значит, она, чистота совершенная, была и до меня!..
И я стыжусь не других, кто рядом, а – себя. Просто мне тесно, когда другие – рядом.
Стыд и есть со-знание.
И лучше – наедине.
Наедине – ответственнее не бывает.
…А Мани нету…
Я встал и, быстро глянув на дверь, сел.
Вдруг всерьёз испугался: обвинительное заключение такое большое – а я печатаю легко-легко…
Вдруг, подражая кому-то из знакомых, стал говорить себе:
–– Ты как-то странно рассуждаешь!..
Крен – будто ветер – я ощущал такой, что волнение было – как на карусели!
И словно я лишь вчера пришёл сюда работать… Все тут вокруг, как три почти года назад, говорили и говорят мне глазами и даже спинами:
–– То чо, закурить, скажешь, не хочешь?
–– А я не курю… бросил… брошу…
–– Ну, выпить, что ли, не хочешь?
–– Нет, не хочу… не пил…
–– Ну, бабу, что ли, не хочешь?
–– Какую?.. О чём хоть?..
–– Ну так что ж ты тогда тут из себя строишь-то?!..
И пока был в Кабинете один, вернее – пока в Кабинете никого не было, я ощущал… нежность к нему, к Кабинету!.. Он в Здании – будто в улье сота одна, одна, но – моя, родная…
Держись, самая моя правдивая правда! По крайней мере – на какую я, на сию минуту, способен.
Побывать-перебыть.
…Сотворение мира – это давание миру названия.
…Тело ведь даже моё – мир, в котором я не живу. Моё тело чешется – но меня же нету в мире, где у кого-то чего-то чешется!..
Я печатал теперь, чтоб продлить эту удобную занятость, не спеша, не спеша…
Маня вошёл.
И досада стала, при Мане, заунывная – знакомая, мальчишковая: хоть бы раз в неделю – одному, без глаза, без вопроса! А то и родители, и учителя – все-все-все:
–– Если он один – то что же он делает?!..
Тело своё, моё, я, однако, обселил: люблю баню. Вокруг же всё обселяю между прочим: не я локтем кого задел – а он меня, не пищит комар – а ехидно пищит, не узоры в мороз на стекле – а папоротники, не разводы на потолке – лица черты…
Полёт Кабинета, который, с Маней, перестал быть только моим, в конце концов стал меня пугать…
И я нарочно встал, пошёл к двери, вышел… правда, не зная, куда сейчас пойду… По коридору идя, заметил, что иду, чуть семеня.
Мать!..
Маму увидел в конце коридора…
Мама?!..
Миг – и она исчезла там – в том конце коридора!.. То ли за углом, в кабинет ли вошла в какой… в стену ли… в воздухе ли растаяла…
Мама?..
Восторженно и жутко сделалось мне!.. Прояснённо и дурманно. Я спохватился: ноги, которые – мои, стоят, стоят… Стиснул зубы. И пошёл… обратно…
Запах события, которое – явно про меня, словно бы враз изменял мой, что ли, возраст – только в какую сторону?..
Побоялся я, в Кабинете-то уже, сразу опять печатать… Пожалел, что теперь не курю. Пожалел, что когда-то курил.
Пожалел, наконец, что это всё не бред.
И так – при Мане!.. И он даже не допрашивал!..
Оголённым, бесстыдно оголённым ощутил я себя – уж лучше бы мне смотреть в глаза в чьи-то…
…Жизнь не читается, как книга, с закладкой – но где откроется.
…Не любил – не знал даже, как же это так: я тут, в "органах" – и вдруг сюда в Здание… заходит знакомый какой-то мой, тем более – родственник!..
Потому что – ничего, ничего, ничего неслужебного у меня тут, в Кабинете, в сейфе, в шифоньере, в Здании во всем у меня нет и не может быть!..
Брат, правда, был тут у меня раза два, да и то – в начале в самом, да и то – мельком.
Страшно – с нарастающим страхом страшно мне было: Крен… коридор… Мать… Правда – видел ли её?.. Её ли?.. Издалека, в спину, в пол-оборота…
Главное – видела ли она… что я её видел?..
Я, школьник, спорил с мамой, Брат вроде бы просто был тут же – а потом он и включил магнитофон!.. Страшно сделалось наивным, свежим, беспомощным страхом. В устройстве том – я украден, раздет, выставлен… предан, схвачен, обижен…
Но ничего оголяющего у меня тут, в Здании, ни в кармане даже моём, нету, нету, нету!..
Разве – речь моя новая. С Нового-то года…
Спрашивает кто:
–– Чем занимаешься?
–– Тем же, чем и ты.
–– Чем же… занимаюсь я?..
–– Осознанием минуты.
И все переглянутся – чистосердечно и в чём-то неопытно.
Забрезжил, что ли, во мне характер – после "распада"-то и "освобождения"?..
Характера, походя задумалось, вообще нет, не бывает – есть сила боли, боли от меня, боли в теле, которое моё.
Да и кто в целом Здании может мечтать против меня? Дело чужое заволокиченное мне суют, дескать, веди, я только и брошу:
–– Куда?
Кивает мне кто бровями на телефон – я прямо в трубку хмельно-ретиво и чётко:
–– Пусть подслушивают. Умнее будут.
Так-то ко мне примерилось нынешнее жующее и кричащее время: партбилет сразу снёс и сдал.
В частности: "Так как за восемь лет ли разу не выступал на партсобраниях." – Нигде, ни на каких…
Я и всегда-то, оказывается, лишь заставлял себя думать, кем мне быть, сам же всегда – кто я есть.
Что ещё? – Со Времени Крика ко мне в "общагу" стала запросто-дерзко ходить Дева!.. Но ведь то – в "общагу"… И она никогда не "шла" никак, ни по какому делу… Да и – знают ли?.. Да и – эко дело!.. Да и – пусть попробуют!..
Слышу Время Крика!
Раньше только другим боялся я в глаза смотреть: вдруг узнаю о другом самое важное… Теперь – и самому себе, мне, смотреть в глаза страшно.
Знаю!..
А непонимание причин поступков – самое ведь очарование…
Может, за эти месяцы даже изрёк сонно-детское крайнее:
–– Ну и что?..
Недаром Томная недавно, "без никого" в Кабинете, обратила мне моё на это внимание.
Я ей:
–– А я вот как скажу!
–– Что, что ты скажешь?..
–– А вот я сейчас возьму, да как скажу!..
–– Что, что?!
–– Скажу: "Ну и что?"…
Она скованно помедлила и скованно вышла, и видно было, что в эту минуту всё-таки не решила решать…
На другой, что ли, день Хорошая – ведь она с нею в кабинете – сказала не вдруг мне:
–– Ты изменился.
С вопросом, правда, сказала и с уверенностью, – хорошая! – что это не так, не так…
Мне же надо было молчать – во мне шевельнулась откровенность пугающая терпкая: Хорошую я чуть не люблю, потому что она похожа на… односельчанина моего и словно бы поэтому может знать обо мне больше других.
"Сидит на малолетках".
Не надо разочаровывать, не надо разочаровывать!..
Но – но неужели… Мать приходила?!..
Думаю-то как смешанно и всё как спохватясь…
Приходила или не приходила.
Как – хуже? Хуже – как?..
Сижу, сижу…
А с Братом я на днях опять, не надо было, слегка поссорился…
Почему?.. А всё подразумевал его… ну, эту… жену…
Заговорилось вдруг мысленно – чётко и громко:
–– Она была некрасивая, и чтобы показать, что она всё-таки не такая, как все, она не пила, не курила и не ходила на танцы… Некрасивая, и поэтому умеет готовить и шить, играть на баяне и вязать…
Глянул я даже на Маню: не слышал ли он моего мычания?..
Возьми себя в руки!
В свои.
В мои.
Но опять заговорил мысленно громко:
–– Сила воли – говорят: хорошо. Но опять-таки – сила!.. Как всем сила-то – любая, любая! – мила… А я – слово, мне – слово: сказал сам себе слово, и будто я уже окутан, объят, окружён этим словом и пребываю содержательно и исполнительно внутри его, этого слова.
Уже, между прочим, печатал… Поэтому на другую, конечно, тему себе громко:
–– В деревню в последний раз ездил – по дороге на обочинах всё баллоны и кресты… А приехал – Мать рассказывает: соседку, молодую-то такую, муж убил… Вот тебе и теории все и всяческие! У нас сейчас идёт житейская бытовая война, назвать бы которую рав-но-ду-шие: тысячи и тысячи погибают по неосторожности водителей и тысячи… по неосторожности жён.
"Обвиниловку" печатаю – и кстати: мне из Кабинета и вообще из Здания ни в коем случае нельзя выходить!..
Маня хоть и сидел передо мной, но словно бы был где-то, где-то…
Он – слышу – в трубку:
–– Нет, я сейчас подготовлю постановление…
Да, ещё и это в речи нынче распространение:
–– Нет, я сегодня включил телевизор… Нет, я обязательно пойду на митинг…
Дескать, нет, я не буду, прежде всего, вещать чужое, но и, нет, не буду врать и своё!
Думалось, под машинку, походя: я жил так, словно видел, как в школе на уроке, рисунок ладный на бумаге из опилок металла – но не видел того, под бумагой, магнита.
Теперь – вижу!
Что? – Что я, который таскает круглый год демисезонное пальтецо чёрное и шляпу одну и ту же чёрную, – отчего "по камере" (общение, мягко говоря, арестованных и задержанных), говорят, меня и зовут Чёрный, – вот что я этому Зданию и всем в этом Здании сделал?!..
А все на этом самом белом свете – побывать.
Это ведь только в разговоре, слышу, у всех такое насекомое:
–– Знаю я… Знаю! Да знаю я… А как? Ну а как? Да как?!..
И обо мне, молодом, здоровом, сильном, сегодня имеют что-то совсем иное в виду…
–– Ты счастлив? – вдруг спросил я Маню смачно и внятно…
Не надо! Не надо!
Маня же, получилось, не расслышал.
Да и в Кабинет-то ко мне все ходят, чтобы – тайно от себя – понять… для чего живут!..
Я же – никого никогда не трону, не окликну, я уступлю дорогу женщине и место в троллейбусе старушке, и калеке помогу, и нищему подам… Но я – не жду – ни от кого – ни за что – ничего.
Побывать, перебыть…
Я сам не знаю, от какой благодати мне – далось.
День, что за окном, стал вянуть, словно забывать, что он – день… Известно становилось всё более и более, что бывает и вечер, вечер… Уж на стене дома соседнего среди квадратов тёмных плоских вдруг стал один квадрат розовым и глубоким…
Печатал – и пришли… Ожиданно неожиданно.
Сидел себе, печатал – и вошли. Вижу: Свищёв, Клава… И
Зрелищ… В седьмом-то часу!..
Бред реальности, бред реальности!..
Неужели все всё ещё "у себя"?.. И у времени про меня смысл?..
Маня – который тоже, кстати, не собирался уходить – уточнил допрашивать громким шёпотом.
Я встал. Навстречу-то.
Зрелищ мне руку пожал, как всегда, поощряюще крепко, но сейчас – ещё и вспоминая что-то обо мне. (Люблю и я его, понял я, за то же, что и все: добродушен, побабист и пузат.)
Свищёв – и явно от лица Зрелища, старшего, что над ним, – сказал мне, как бы в попытке искренности, мол, надо бы с тобой, со мной, поговорить.
Я собрался, сэнергировался, посмотрел даже, может, и чуть иронически:
–– Поговорите.
Клава губы растянула чуть.
–– Ты смеёшься, что ли? – Зрелищ вдруг сказал новым мне и ему самому прояснённым голосом, и поверх моей головы глядя.
Страшно, страшновато стало, настало…
Дурнотой лёгкой на меня понесло – так как пахнуть стало словно всё иначе: из-за какой-то невозможности состоявшейся. И будто даже возникла нужда в вопросе: стучать ли сердцу?..
Разоблачённо-трезво вспомнил, как ещё недавно красивое мусолил: надо заполнять всё – моим!..
Простительно намекнулось мне мною – словно бы из-под нескольких слоёв мыслей: вот и до тебя, до меня, дотянулось то, что есть… эти… те "органы"…
И словно вчера, а не на первом году было: Муза, экспертша-то, взяла у меня "пальчики" (я на "месте" делал осмотр и брался за всё), "откатала" меня, пошла уже из Кабинета, но оглянулась и сказала внятно и с пониманием чего-то словно бы моего, моего:
–– Я тебе их верну.
Я тогда – задохнулся… от неумения… общаться… Будто она выносила, оставляя меня нагишом, мою одежду.
Понятные слова лишь минуту спустя нашлись: суть не в том даже, что у меня нет повода волноваться, а в том, что мне всё-таки говорят – и ждут, ждут, как я среагирую.
–– Чего ты боишься-то? – крикнул я себе в себе, мне во мне. – Ведь я – уже я!..
Но стоял подчёркнуто прямо.
Свищёв – за всех, за всё, пожалуй, Здание – предложил мне сходить с ними "вниз", в ивээс.
И все при этом протяжно посмотрели на меня. Даже Маня, словно печатал – о внешности моей.
Я ощутил, что у меня что-то появилось на лице. Я вдруг болюче пожалел: и зачем мне потребовалось когда-то становиться из совсем маленького маленьким, потом из маленького – школьником, потом – молодым человеком?..
Радостно ярко, сочно ощутил я, что постоянное моё состояние, может, с младенцев – что я ничему не поддался!.. И все видят, видят это – и ждут, ждут: вправду ли ничему-ничему я не поддался?..
–– Ведь я – я…
И – пошли.
Ценность единичного, ценность единичного…
Пошли по коридорам и лестницам, и я спиною и грудью чувствовал их, троих.
У двери, у ивээс, Свищёв позвонил, и все трое стояли ко мне лицом и смотрели на меня…
Войдя, Свищёв никого "не выписал"…
Голос, в одном из кабинетов, был Шуйцева…
Я вдруг понял, что мне надо идти на этот голос… Пошёл – и словно поприще новое ещё только начинал, словно ещё впервые в ивээс…
–– А ты что тут делаешь?!..
Крикнул прямо я так.
Кажется или не кажется?..
Ещё за порогом.
Удивлённо-легко, на миг, стало мне – о-о! – и всецело-ново: а где же сейчас мой Брат, где мой Брат там, в Городе, если, ежели сейчас он… тут, здесь, передо мной, в ивээс?!..
Ваня – Ва-аня, Ва-аня, такой тут чужой, сам себе новый, строгий – посмотрел, сидя и не зная, встать ли, – посмотрел мне в мои глаза глупо – и стараясь смотреть именно глупо…
Понялось вмиг, что должен – должен, должен! – я сей же миг, несмотря ни на что и во что бы то ни стало, дерзко… подпрыгнуть!.. Потому что – смотрят.
И я – поскольку все сейчас на меня смотрели – понял всё, всё.
Понял всё.
Сглотнулось слышно и видно для всех…
Ощутил, главное, что здесь, в этом Здании, там, наверху, на втором этаже, за дверью одной – мои пальто и шляпа… И – что больше ничего моего в этом строении нету…
Услышал я, как тут кто-то что-то сказал, спросил, ответил – и услышал я такое. В какое-то время, такого-то числа, в такой-то даже день недели, в таком-то часу кто-то где-то был и – и он же там же в то же время не был…
Ваня, глазами не понимая, почему я этого, о чём сказали, не понимаю, медленно поднял свои, его, плечи и не стал их опускать.
Я – видя, что все, кто тут, видят, что у меня в моей жизни сейчас ничто иное как позор, – сказал то, что я знаю об этом, который сейчас у меня в жизни, позоре: