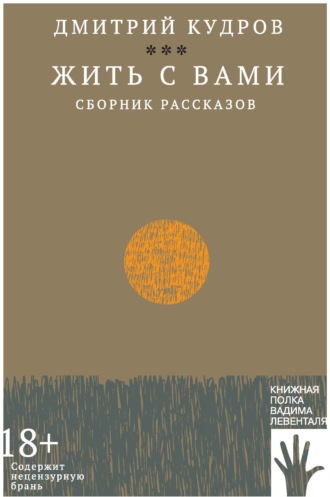
Полная версия
Жить с вами
Духота разрешается дождем (Л. и рада, и клянет духоту, как несбывшееся ожидание). И вот они: стоят под козырьком крыльца, за спиной облупившейся бордовой эмалью пузырится и блестит дверь, над козырьком (из-под не увидать) дрожит дождь, он то ли держит ее за руку, или она сама ухватилась, у него та же полуулыбка – рот полу(недо)открыт/ недо(полу)закрыт, и темнеет высунувшийся, вышедший (сам собою) за козырек ботинок. И он не называет, а называется (Л. произносит вульгарный французский вариант). И он не называет: в этот раз. Только однажды, в следующее появление/проявление он именует ее в фойе кинотеатра, когда она засмотрится на расписание ну-кому-это-интересно фильмов, но она вряд ли расслышит в криках обступивших ее еще более детских голосов – Льууу… а дальше (что дальше? шепот, шелест, сюсюканье или удар?) он промолчит.
За дождем будет такси и неопрятная, почти детская возня на заднем сиденье и вожделеющий глаз усача-таксовича-везутчика в зеркале (прочь, пакость, вошка) – по двум адресам, по первому Д. скроет вязкая темнота, везутчик резко погасит фары – она передернется, по второму – законная цепочка придорожных фонарей, врезающаяся в горизонт, что ее списки, произвольно обрывающиеся, но по-настоящему без конца.
По следу первой следует вторая – у второй нет иной (добавочной) причины, Л. едет к Д., и только так, едет от центра. Муж пытается вспомнить, что было между, – тем более, вторая поездка датирована октябрем или началом ноября (всплывают помимо прочего: пальто, лужи и даже снег). Кажется, Люсетта перестала просыпаться по ночам, кажется, Люсетта перестала уходить из дома на выходные, кажется, Люсетта перестала колоть мужа его неюностью, кажется, Люсетта именно тогда заигралась – за два месяца напечатала с десяток стихотворений и один рассказ (Линор Лу (перевод с нем.), Лиа Лю (перевод с вьетнам.), Лиза Лин, Лида Лесюк, Лина Луговая, etc.). Вторая поездка длится вечность: Л. договаривается, Д. исчезает, Д. просит, Л. спешит, Д. меняет планы, Д. хочет приехать, Л. отговаривает. И вот: Л. едет, теребит книжку и выкидывает наконец в окно, где долгие (ничем не примечательные) леса, поля (еще лежат не завалены снегом, но в ожидании), кривые дачи, трубы и заводы (по обыкновению или необходимости, серые). И Д., который уже никуда не врывается, но мельтешит перед глазами, видится в чужих затылках: такой-то Д., очень даже Д., более чем Д. И она, Л., на платформе, на вокзале областного центра (Калуги или, допустим, Тверская обл.) кутается шарфом от ветра и в поисках такси, где толстый (они все такие) везутчик сонно молчит и ничего о Д. не подозревает, как не подозревает, что является лишь/исключительно орудием ее удаления от центра. Д. стоит, Д. ждет где-то на окраине окраины, его колотит (заморозки в околотке) на трамвайных путях с сигаретой в кулаке, впрочем (замечает Люсетта в другую ночь), Д. совершенно не курит, в пальто, с рюкзаком, тем самым (муж поминает З., который поминает Витгенштейна, Люсетта пучит глаза). Д. значительно бледнее, и черные кудри убраны под шапку. Глаза, радужка цвета темного липового меда, только и есть напоминание о празднике. И вот тут Д. зовет в кинотеатр, и ему неважно вовсе, что там показывают и кто все это смотрит, это не представляет никакого интереса для них обоих. И вот Л., почти им обозначенная, становящаяся, но так и не ставшая, возится, и опять по-детски, на сиденье заднего ряда, пока Д. завороженно внимает фильму, который да-кому-это-вообще-интересно. И возится от того, что зрение всего и разом более не возобновимо.
И Л., бросив возню и тихомолко, в фойе, где всё те же дети ждут то ли мультфильма, то ли взрослых, то ли когда сами повзрослеют, звонит снять номер и плохо слышит говорящего с ней. И комната, должно быть, та же, хотя (в другой раз она выражает подозрение), может быть, этажом или даже двумя выше – фонарная цепочка словно удлинилась. И шкаф-пенал полирован и стар, как в родительской квартире, но Д. (она многажды это повторит – муж будет исколот вполне) этого не знает, не может знать, для Д. этого не существует (Д. сказал бы, будь он глупее (а он не глупее разве?), старинная вещь), это помимо Д., – и когда Д. кончает в пятый или в шестой раз, Л., кажется, пытается навязать: моя юность, до чего ты… или пришло с границы донесенье, что варваров в помине нет; или обрывается, или молчит – боится испуга. Д. полуулыбается или недоухмыляется, засыпая на скрипучей покойке. Она разглядывает его, головой упирающегося в кроватную спинку, фонари, упирающиеся в горизонт, и список, упирающийся в его имя. И Л. наматывает на указательный палец серебряную цепочку, подаренную ему отцом, и Л. водит пальцем вокруг его соска и, кажется, повторяет его имя, и ей кажется, что имя как имя, но после него ничего не следует, словно ничего не может идти следом, словно слово, лишенное валентности, и, кажется, она нечто еще говорит относительно окраинного пустого пейзажа, но внезапный крик за окном (вошка-таксович до кого-нибудь все же добрался) ее сбивает. Л. засыпает под черной его подмышкой.
И вот: Л. и Д. спят на одноместной кровати, вторая пустует, и, когда они просыпаются, Д. говорит, мол, эта пустая кровать – его кровать. Л. встает нарочно скидывать с нее одеяло. Д. идет в душ, где сырой резиновый коврик и остриженные лобковые волосы в умывальнике, где едва теплая вода, и, оставшись одна, Л. бросается к окну учить пустой вид: церковь раз, панельный дом, дорога, продуктовый, церковь два, дома, дома, дома вдоль дороги и фонари вдоль дороги, церковь три… Вот она: говорит, что на груди его лежа любит лизать дебри потных его подмышек или засыпать, уткнувшись в них носом. И вот он: уже использовал одноразовый гель для душа, и уже (вместо Л., по ее просьбе) отдает ключи ключнице (сегодня ночью я одна), и виновато недо(полу)улыбается, и вызывает две машины, и Л. чуть не плачет, проступает (на этот раз не усилием поэтической воли) слеза лишений (Л., лишенная детской шалости на заднем сиденье на зависть таксутчику). Д. обнимает ее (по иным показаниям, обнимает Л. – Д. плачет).
И вот они: едут в разные стороны (Л. не помнит водителя этого раза). У Д. дом с видом на реку, и он гуляет с собакой, а вернувшись, снимает майку и повторно ложится спать. За окном: ветер, река, нецентр. Л. протягивает билет заспанному контролеру с глиняного цвета лбом, зевает, прикрывая рот подушечкой ладони и представляет, что там, в нецентре, где река, ветер, мост, собака и постоянно две удаляющиеся друг от друга машины, и в доме с видом на воду засыпает сама Л., не то что Люсетта, или Людмила, или Люда (не одна из), не та, что имеет должность и коллег, товарок и любовниц, приятелей и трахальщиков, не та, что имеет мужа и некоторые лит. таланты, просто некая Л., помимо всего этого (как некий Д., исхитрившийся проскользнуть (склизкий слизень) мимо всего и нигде не занять места), как некий Д. (она, кстати, думает теперь, что, может, и не было в действительности никакого вульгарно-фр. варианта, она сама его навязала, или думает кстати, что он вовсе ей не назывался, а имя украдено ее воображением со случайной fb-страницы) с виноватой/ невинной недо(полу)улыбкой/полу(недо)ухмылкой перед ключницей, водителем, родителем, сукой-собакой, потому что не в центре, где тесно, не видно и почти ничего нельзя. Но потому только и можно. Всё можно, как по пути в Итаку. И даже сказать Д., что смотри, мол, выпал снег и, кажется, кончилась ночь, то есть так светло, так мерцает где-то на окраине/в нецентре, что кажется: вот-вот наступит долгий без конца день, только до того ты успеешь еще несколько раз выспаться.
И вот – усердно составленная карта, которая, правда, ничего дать не может: ни мужу, ни самой Люсетте. Д. есть и ненаходим: он как бы в каждой точке ее и как бы одновременно. Люсетта продолжала бредить, иногда кстати и весьма продуктивно. Но муж купил беруши и снотворное, правда, Люсетта сильно по этому поводу разозлилась (во второй раз пострадала та же ваза). Более того, в марте ее посетила вовсе отчаянная мысль: после очередного полуночного разговора она положила голову на мужнин живот и сказала, что почему бы не с ним. Муж, конечно, вскрикнул и психанул, муж даже начал искать новую квартиру: мерзавца уничтожить не удалось, оставалось ждать, а ждать лучше в безопасном месте. Но мерзавец появился снова, спустя зиму и март, когда Л. извелась-истратилась, перебрала все возможные псевдонимы и подставные биографии (ей удалось выступить на одной конференции под тремя разными именами с тремя критиками никому, кажется, кроме нее неизвестной теории в отношении новейшего стихосложения), в конце концов, она исчерпала все возможности одной этой истории, т. е. то, чем она так болязненно болела. Д. стоял быть встреченным около полуночи в непоименованном баре совершенно случайно (хотя муж и сейчас отметает – так в третий раз падает ваза – всякую внезапность в этой истории) и явлен мужу. Тут Л.: как бы исчезает, как бы выбирается, вылупляется из себя самой, р(Р) оман вырастает из луковицы. И муж как бы кивает ей, как бы ощущая медовую праздничность, и на улице, где ждет такси, будучи отослан домой, как бы ощущает конец зимы, как бы видит готовность зелени вырваться из-под еще обледенелых веток.
Они мало говорят, как и прежде, они выбегают в улицу вслед за мужем, врываются в желтое везутчиково логово, и Л. завороженно принимается за детскую возню там, где привычно, но тут же отмечает (она точно помнит: светофор горит красным, усач косит карим, за окном река, за другим отточие фонарей, меня ты ими пригвозди), возня перестает быть собой, перестает быть детской. И Д. хочет нечто сказать и начинает обращение, но Л. ладонью зажимает взбунтовавшийся рот, как бы вдавливая смуглое и курчавое в спинку сиденья. И Л. отстраняется, Л. смотрит в окно: машина едет переулками, машина никуда не удаляется. И Д. нечто говорит, Д. болтлив: теперь он тут, теперь, ему кажется (ему кажется!) навсегда, да, работа (у него работа – не та, не там – тут). И после утомительной (неутихающей, как муха возле джутового рта) болтовни Д. они стоят в подъезде: Л. тяжело дышит (муж хихикнул), Д. клацает квартирным ключом и, скрипнув дверью, зовет Л., но (благо!) лязг мусоропровода и треск не позволяют расслышать. Л. сбегает. Д. оставлен стоять пригвожденной к придверному коврику тенью: из квартиры тянет вареным мясом, неудержима его ботинком, на лестничную клетку вырывается кошка.
Люсетта, бедняжка (и муж ее бедняжка), что-то шипит и пишет, вернувшись, потом исчисляет имена (Антуан, Фаррах, некто Григорьевич) и засыпает, оставляя мужа с довольно скучным романчиком, где осколки нарратива (худые и бедные) едва просвечивают сквозь лирические отточия.
Дни сатурналий в Коломенском
Начать хотя бы с того, что у Ильи Алферова ответственный и достойный бизнес, и по его мнению, и словами бывшей жены, которая, конечно, не сильно в это вникала, и потому не особенно многое может сказать, разве что «достойный» не предполагает особенно больших доходов, а по совести – она вообще никаких не замечала. С одной стороны, после того, как Коленьки не стало, у нее появилось и пошло в рост отвращение ко всему материальному, беспокоилась, может быть, только за Оленькино благополучие (по привычке относимое на счет денег), с другой – она и раньше не сильно вникала в Илюшины дела, так, ненароком, за ужином, между прочим, и то, если Илюша к ужину успевал – обычно сидел в редакции до полуночи – она и в этом нисколько не сомневалась, и не потому, что у нее отсутствовало, что называется, критическое мышление (в чем почти невозможно заподозрить выпускницу философского факультета, правда, один приятель француз подшучивал, мол, дела с критическим мышлением у русских обстоят примерно так же, как и с философией), а потому, что сомнения оборачивались для нее настоящей физической болью: сначала сводит челюсть, потом дергается веко и острая, как при гайморите, боль меж бровей, которая, несмотря на все таблетки-уколы, только усиливается с каждым часом и с каждым оборотом сомневающейся мысли; в студенческие годы ее несколько раз забирали на скорой, потом лечили от гипертонии, мигрени, того самого гайморита и почему-то от камней в почках – толку не было; потом в состоянии кромешного отчаяния (онколог говорил, беспокоиться не о чем, ни малейшего подозрения, и не назначал МРТ) пошла по бабкам, и вспомнились очень кстати слова знакомого фольклориста, что настоящий целитель деньгами брать не будет – она носила то кур, то гусей, то странные сладости (и всё втридорога с лучшего рынка, и всё боялась не застать, не увидеть, каким Коленька вырастет: будет ли на Илюшу похож или на нее больше, и не лицом, конечно), но и целители нисколько не помогли – помогло внезапное увлечение готовкой, и даже не столько готовкой, сколько просмотром кулинарных ТВ-передач, и всякий раз, когда наступали сомнения (имеется в виду, конечно, не любые, а непосредственно к ней относящиеся – отвлеченные операции удавались ей без лишних проблем), она принималась резать, отбивать, жарить, проговаривая шепотом последовательность действий, словно сама кухарка-телеведущая, а напротив поставлен некий наблюдатель-оператор смотреть за ней в камеру, и ему же время от времени улыбалась, и только это, пожалуй, выручило после того, как Коленьки не стало: почти сразу, месяца не прошло, она решила вернуться к преподаванию, но не продержалась даже семестра (за что приятельница и заведующая кафедрой античной философии сильно на нее обиделась и не снимала трубку почти год), потом по совету – естественно сомнительному – и рекомендациям старого Илюшиного друга – вроде как близкое общение с детьми должно поспособствовать – перешла работать в лицей при университете, откуда сбежала с головной болью меньше чем через месяц посреди урока, но вдруг ночью разбудила мужа найти видеокамеру, свет, звук – муж сделал, даже помог с режиссурой нескольких выпусков для ее кулинарного youtube-канала, который сразу же привлек внимание, и не только готовкой, даже не готовкой вовсе, рецептами иного толка, как бы психологического, но это уже без Илюшиного участия – он же, если где-то разговор вдруг сворачивал в сторону ее нового увлечения (правда, оно приносило доход гораздо больший, чем его достойный бизнес), снисходительно мотал головой или отмахивался ладонью, потому что теперь Илья Алферов сам страдает от головных болей (и не только головных), бессонницы, нервных подергиваний, и ему иногда кажется, что так он отдувается как бы за двоих, с другой стороны, переживает, конечно, за Алика, но второй месяц уже хочет всё переиграть, и не совсем еще понимает почему, но одно сомнение – и не его, между прочим, сомнение – никак не оставляет в покое – и поделиться бы с женой, но нельзя, и как бы сам Алик не поделился, хотя ему-то что?
Сначала Илья Алферов полагал, дело в простом любопытстве: все же он отец, и где-то сын, и алименты алиментами, но и увидеть хочется, тем более пятнадцать, уже и поговорить можно, рассказать, почему оно так вышло, прощения попросить. На этом «прощения попросить» у него все и сошлось – ни туда ни обратно, совесть заела что ли, или совесть заело – вспомнил он юношеские попытки быть поэтом, неподцензурным. Пишет колонку, и вдруг ступор, чужой текст вычитывает – то же самое, все к одному сводится, везде вина неискупимая, дом совести, Одиссей Телемаку, или Коля сидит в гостиной с книгой и как бы одним видом своим укоряет, или Колю с тенниса забирать – но ведь и того тоже (про то, что тот Алик, Илья Алферов еще не догадывается – с Тамарой договорились, без подробностей, никому от подробностей лучше не будет, алименты алиментами) кто-нибудь забирать должен, но никто не забирает (что Тамара до сих пор одна и с тремя сыновьями, ему говорит мать еще зимой, хотя и у матери, должно быть, некий свой мотив на этот счет имелся), и увидел, подглядел. Алик лениво курит, развалившись на лавке во дворе, и смеется над, видимо, шуткой приятеля, пока Тамара жалуется и на Алика, и на других двоих, и на все остальное, и мешает ложечкой уже остывший чай – Илья Алферов перестает коситься в сторону окна в попытке припомнить и сопоставить ту Тамару и теперь, что в запыленной прокуренной кухоньке усердно размешивает сахар, который и положить забыла; и вроде бы даже припоминает, но – тускло, засвеченно, туманно – пятнадцать все-таки лет (он там давно уже – пишет, переводит, преподает, дело вот даже затеял, про которое позже говорит Тамаре, что социально ответственный бизнес – Тамара безучастно улыбнулась, – он, наверное, как и прежде, все переделывает трехкомнатную квартиру в своем Коломенском, как и прежде, вспоминает Тамара, тогда у него Оля в школу пошла только; а сама Тамара тут, и где бы ей еще находиться, а мужа и не было – так жил с ними, спокойный такой, добрый, но Алика, правда, избаловал, близнецов – тех не очень, конечно, ну ясное дело – его, а тут как же, ответственность: хочешь мороженое, хочешь газировка, приставка, потом подрос – деньги пихать стал; вот и смотри теперь: лоб вырос зажравшийся, чего хочу, то и ворочу, а школу закончить не может: что тут школа? не школа, слово одно, ходи да сиди смирно, но нет – вот придет сейчас, поспит-поест, и только его видели, к утру явится пьяный, если у бабки не заночует), с женой поругался, и как на случай в Ростов позвали курс читать, все-таки родина, детство, мать не видел сколько лет, и жена отдохнет, и Илье Алферову как-то полегче, и книгу соберет, издательство давно просит, правда, внезапно как-то стало не до книги и не до лекций. Лежит у нее в общежитии: кровать одноместно скрипит, он болтает без умолку, сам себе надоедает, и только замолчит, она снова просит что-нибудь рассказать этакое. Что во мне такого, спрашивает, он молчит, она еще раз, он думает, потом вдруг, сам от себя не ожидая, сам над собой посмеиваясь, ты русская, понимаешь, да нет, не понимаешь, он и сам, если честно, не очень понимает, неуловимое, неуловимое такое понятие, и знаешь, что самое в этом смешное: такое странное чувство возникает от него, какой-то экзотикой пахнет – она смеется в сумеречно-зеленый глянец стены и куда-то все уходит, дальше и дальше, в свой рабочий поселок, в пригород, в прокуренную кухоньку на верхнем этаже двухэтажного дома, где гудят трубы и облупилась штукатурка. И когда Илья Алферов снова глянул в окно, то сквозь пыль удивился внезапной перемене: он теперь как бы сам стоял по ту сторону – не то чтобы Алик сильно на него похож, Илья Алферов ниже и в плечах уже, и голос (теперь Алик молчал в тени сиреневых кустов и смотрел на Илью Алферова, но смех застрял в голове и вряд ли уйдет до самого рассвета) ниже, но все же: это сам Илья Алферов стоял внизу в сиреневой и липовой тени и сам на себя смотрел, не некто похожий, а сам он, стоял и смотрел, смотрел и во все глаза, смотрел со всех сторон, стоял в другом, в чужом (но то чужое, как свое собственное) теле, человеческом своем, немертвом своем, в своем собственном теле: убраны в карманы спортштанов ладони, широкие плечи скрадываемы солнцем, и широкая, необъятная голова, и темнота волос бликами световых пятен, и широкая грудь, спина, живот – скрытые в черноте одежд, ухмылка-улыбка, длительность тишины, обрываемая за лесополосой лязгом внезапного поезда, и шаг за шагом он, Илья Алферов или другой некто, или Алик, или никто из всех, шаг за шагом будто уходит, удирает скрыться в черноте дверного проема, слиться с тем, что за дверью, и шуршать по лестнице, и хлопнуть квартиркиной дверью, и молча идти мимо кухоньки, усмехнувшись проходя, и включить глухой стук песни в спальне, и громче, и еще громче, и еще, или недвижим с места и глядит неизвестными глазами его же отца из-под липы, и отца отца, и далее, настоящих имен которых он не знает, никогда не знал, не узнает, но и в этом ничего страшного, только оторопь, озноб, ослепительно-тусклый свет съедает голову (и с другой стороны тоже), после солнца снег, звезды, дождь, цветение герани на подоконнике, и сирень за окном (не разобрать, где за), и смех, и крики его детей, гоняющих собак под деревьями, и ночной вой собак под фонарем, и фонарь за фонарем, за фонарем, за фонарем, и так до конца улицы, до охристого горизонта, где позже чернота перекопанного поля врезается в кобальт всегда хмурого утра, где наступает дождь, и старуха-мешочница в сумерках, и драный мешок на ее правом плече, и мерзлая свекла, падающая бурыми плевками из мешка кормить крыс, червей и ворон, и крик ворон, не молкнущий над серым зданием поселковой школы, где стеклом дребезжит метель, и темный шар головы, и он говорит ей и сам смеется, скрипит кровать в узкой комнате общежития, темные плечи распадаются.
И еще, и это на удивление Ильи Алферова, Алик оказался довольно разговорчивым, и никаких, кажется, обид не таил, но оказался во второй уже приезд Ильи Алферова, когда они несколько часов гуляли вдоль железной дороги. Содержание разговора Илья Алферов теперь припоминает смутно, но вот ощущение, которое не прошло сразу, но только усилилось, помнится совершенно отчетливо и наталкивает его на новую волну сомнений. После, конечно, стало ясно, что не только в любопытстве дело: встречи с Аликом как бы переиначили Коленьку, как бы сместили акценты, и Коленька явился вдруг чрезмерно занудным, скучным, послушным, рассудительным – и все-то он знал: где-что-лежит, как-что-будет, кто добрый, кто злой, и какая-то у него социальная ответственность, долгие расспросы-разговоры – Илья Алферов включал музыку громче, когда вез сына домой из школы, и не отвечал на сообщения в мессенджерах, и на звонки-то отвечал через раз, а то и через два, потому что никакого оцепенения, загадки, несовпадения, обещанного конфликта. Теперь, возможно, Илья Алферов понимает, что как бы сам ожидал, даже неким образом подгонял подмену: это ее Коленька, послушный, причесанный, умненький, и Оленька ее, и даже он сам, Илюшенька, тоже ее. Алик другой: от скрипучей кровати, сквозняков, осыпающихся потолков и засранных туалетов. И, чтобы совсем не расстраивать жену, поселил его в Олиной комнате (Оля, редко теперь появлявшаяся в родительском доме, ночевала, если вдруг, в бывшей Колиной спальне (по еще одному сомнительному совету после сороковины спальню отремонтировали, так чтобы совсем ничего не осталось), потому что селить туда ребенка, другого ребенка, совсем не Коленьку, совсем на Коленьку не похожего, было как-то неэтично, неправильно, словно замену нашли), жена против не была, тем более если Тамара (тут она слышит Тамарино имя во второй раз, про сына же знала с самого рождения, но никогда не спрашивала) так тяжело заболела, а бабка с тремя не справляется, разве только переживала, как сам Алик осилит перемену места: московские школы – дело другое, то есть, если у него в сельской все так плохо выходило, тут может совсем не получиться, потому предлагала устроить Алика в какую-нибудь специальную, для сложных детей, тем более сколько их сейчас появилось – исключительно в интересах ребенка; и относительно себя полагала, что может с таким не справиться. Илья Алферов успокаивал – он почему-то в те дни сомнений не знал, все ему казалось правильным и разумным, тем более сам Алик почти даже с радостью воспринял новость о переезде, только сказал уже в машине, что будет сильно скучать по всему этому, и спросил, когда станет можно вернуться. Илья Алферов в ответ удивился, мол, по чему же тут скучать можно: по трубам гудящим или по грязным подъездам, которые ремонта лет тридцать не видели? Алик пожал плечами – тем более сам Алик пожал плечами, широкими, шире, чем у Ильи Алферова, и кивнул (впрочем, он и потом всегда так делал, даже когда Илья Алферов начал беситься по этому поводу и устраивать скандал, потому что никак не понимал, что это движение значит, или какой-нибудь дурацкий ухмыляющийся смайлик, злоебучий смайлик в ответ на пространный, и не только пространный, но и душеполезный монолог Ильи Алферова в Fb; со временем Илье Алферову пришлось осваивать другие платформы для общения с Аликом, но и там Алик был каким-то неуловимым: вот еще онлайн и сразу же нет). Но главным во всем этом оставалось одно: жена ни на секунду не должна была заподозрить, что он, Илья Алферов, этого своего сына любит хоть немногим, но больше Коленьки, потому что Коленька – это, конечно, святое, Коленька в три года уже читать начал и решал логические задачки, к пяти прямо-таки на лету рифмовал эти самые задачки и делал маму, папу, маминых-папиных приятелей их героями, за что его особенно любили и дергали за вполне упитанные щеки (и эти упитанные щеки были, конечно, поводом для головных болей у матери, несмотря на увещевания врачей, что оно пройдет и ребенок не превратится в бочонок жира, потому что вот у Оленьки никаких щек не было – и наступили детские диеты и дробное питание для всех, что Илью Алферова естественным образом нервировало, и он устраивал скандал, после чего они молчали почти месяц, но жена решительно стояла на своем – с Аликом Илья Алферов этой воли давать ей не собирался и не дал, когда у Алика начались те самые (которые она прогнозировала, словно накликала) проблемы в школе: Алик то ли пьяный пришел на урок, то ли укуренный и прямо с порога принялся всех посылать к хуям, перевернул парту, сломал нос однокласснику (за что Илья Алферов устал платить) и т. д., но все обошлось, успокоилось, пока не повторилось снова: и в третий, и в четвертый, и, кажется, в седьмой раз – Илья Алферов воли жене не давал, только когда все едва не обернулось уголовным делом, он решил перевести Алика в частную школу, и тем не менее не в закрытую (приятели и жена за ужином в один голос рекомендовали некую, название из головы Ильи Алферова вылетело сразу же, под руководством выдающегося шестидесятника где-то рядом с черноморским курортом, правда, раздался один усомнившийся голос, мол, то не школа, а самая что ни на есть секта), не в интернат, но в очень даже приличную, даже в очень актуальную, в которую многие хотели, но одновременно опасались, этакий вариант Саммерхилла, где ни звонков, ни отметок, ни обязательных предметов, где не осуждают, не досаждают, и всем почтение, но и стоило это почтение Илье Алферову около половины зарплаты – пришлось социально ответственный бизнес делать чуть менее ответственным, жена не заметила), потому Илья Алферов затеял долгий разговор с Аликом, купив для того шесть банок пива (внезапно выяснилось, что без пива никакие долгие разговоры с Аликом невозможны – Илья Алферов заподозрил в этом след Аликова отчима и однажды даже не промолчал по этому поводу – Алик пожал плечами), тему которого (помимо, конечно, пустого навсегда места, на которое Алик претендовать не должен) смутно еще представлял, слишком многое хотелось сказать, слишком многое вертелось в голове целыми днями – неумолчный разговор внутри себя, бескрайний внутренний монолог, обращенный к Алику (что для Ильи Алферова особенно удивительно – не было в этих словах ни капли злости, как обычно в таких случаях, мог целыми днями, а то и неделями вертеть внутри себя злобный, желчный ответ на кем-то обнародованную мысль), только, сев в кресло напротив Алика и выпив банку пива, ничего дельного произнести не смог, во всяком случае, ничего Алику понятного, так, нечто про архетипы (попутно обругал Юнга и охуевших (так и сказал) юнгианцев), нарративы, социальные маски, и что Алик умный, конечно, парень, но совсем не умеет это использовать и все себе же во вред делает, а научись, так горы бы и свернул, потому что в нем, в Алике, есть такая степень свободы, о которой многим лишь мечтать и мечтать, вот хоть бы ему самому (ночью, правда, как-то противно стало от этого своего высказывания), Алик же сильно расстраивался по поводу не купленных Ильей Алферовым чипсов или сухариков к пиву, рассказал пару историй, не имеющих к делу никакого отношения, и переключился на видеоролики в телефоне; Илья Алферов еще некоторое время продолжал говорить фоном вдруг почему-то о Канте (он вроде как слышал, что фоновая речь крайне важна для подростков, не сама по себе речь, конечно, но ее содержание исподволь формирует личность и ее качества), но потом и сам переключился на рабочие письма.




