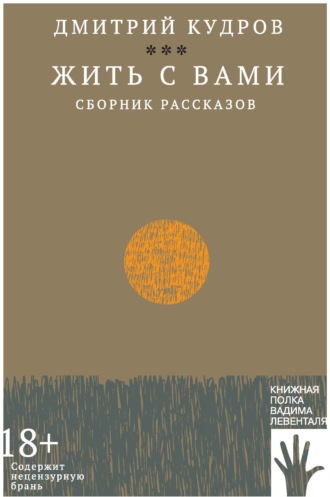
Полная версия
Жить с вами

Дмитрий Кудров
Жить с вами
– он чужой, он чужой, он плохой ничего не говори, он это лучшее, что было со мной
«Гости из будущего»© Д. Кудров, 2021
© ИД «Городец», 2021
© П. Лосев, оформление, 2021
Сокрушенный человек
Я спускаюсь к реке по опустевшей улице, и мне не о чем более думать: нет, я не утерял всякую мысль, я не утерял (как водится, по какой-нибудь поэтической причине) способность к мысли или (того глупее) предался чувствованию. Мне больше не о чем думать: все продумано (шутка, в некотором роде, фигура речи) до определенного (кем?) предела, и что за этим пределом, мне знать нет не только необходимости, но теперь и желания. По опустевшему городу я спускаюсь к реке – город съеден, как мысль, додуман до предела; у города нет края (он ширится домами-муравейниками – вчера край, а сегодня новый квартал: рядом автобусная остановка, супермаркет, детский сад, школа, больница, ипотека и хороший процент по кредиту, – он ширится кладбищами, кои, по мне, делать бы лучше подобно высоткам, только под землю их врыть, – низотки, домовины-муравейники, зеркальные кварталы, катакомбы и град подземный – не мысль, а маниловщина), как и у мысли, но есть граница, похеренное имя, забор, за который не ступи, не потому что нельзя, а потому что там не город, потому что негород. Всех загнала болезнь, и не сама болезнь, но страх, предчувствие – неживой город или город неживых, не знаю, как лучше (интересант). А между тем внезапная апрельская жара и сезон пыли – с востока тянет пески и зловоньем. Разложение и распад города, живописные руины, былое и трупы прошлого: сталинский ампир и брежневский модерн, николаевская русь-псевдорусь. Все по швам трещит: штукатурка осыпается, дерево гниет, бетон крошится. Милые развалины, я не то что привык – я люблю. И на дух не переношу новострой (врыть бы его в землю – мертвым мертвое). Может быть, потому, что в руинах я родился и я рос (взрослел и утверждался), (старел и осквернялся) я страдал среди новостроек. Я (некое обобщенное Я, которое больше всякого нечестивого «мы» и подлого «все») ничего, что не рушится, не гниет, не трещит, и знать не желаю: это не жизнь, это не к смерти. Можно даже положить это моим политическим манифестом, положить и забыть, потому что мне, человеку руин, чужды эти дурно пахнущие манифесты (в городе руин не осталось свободных мраморных плит для лозунгов, в городе руин не осталось гравировщиков).
Я иду вниз, я спускаюсь по спуску (зыбкая лестница, сквозь которую вольно растет трава, когда лето) вниз, в низину, в низовье, чтобы смотреть вверх, чтобы увидеть его, чтобы обозначить его – верх виден исключительно из низины, если только спуск не слишком крут и не ограничивает низину, наподобие перечеркнутой таблички, низина – неверх. И не лишь потому.
Я иду по ее следу, я преследую ее, я ищу ее. Ищу N. Ищу место, где бы N отсутствовала совершенно, где бы N не была вовсе, где N нет, где N зияет и опрокинута в высоту, потому наиболее зрима. Странное дело, обреченное дело, больное дело. Сплошная чепуха. Сумятица. Искать N в сезон пыли, когда сама она что пыль. Это я теперь определил, кажется, наверняка (дань великому стилю, а не ради красивого слога… что взять с жителя руин?).
Я всю (что есть) свою (и не только) жизнь (не сказать что патологически долгую, но субъективно длинную) отдал N, не поискам (ищи – не найдешь), но самой N (не сказать что нарочно, что по здравому разумению, но угодил в невольники – как бы иначе), я любовался ее всегда удаляющейся спиной, я поднимался и падал в вихре, образованном ее бегом, я слеп и прозревал в ее сокрытии (но кем? но кого?) – я не верил, но видел, видел со спины; со спины, когда пас овечьи стада под тенистыми сводами Александрийских стен или сдавал внаем детское тело свое ушлым американским искателям приключений в Танжере, когда от Самарканда гнал караван и задыхался от смрада следов, им оставленных, когда вытаскивал деньги из растопыренных карманов барыг и пьяниц в барах Нью-Мехико, сливал бензин на сибирбией заснеженных магистралях – опять же фигура речи, виподобная N. Но Ви существовала, по крайней мере, мыслилась таковой преследователем. N никогда не была или точнее всегда была каким-то недостающим образом (никогда полностью, но всегда в некоторой степени; в отличие от Ви, которая всегда уже была, N еще никогда не была, потому что полнота N говорила бы о моем отсутствии), и преследователь обречен, и преследователь раздавлен, и преследователь уничтожен самим преследованием – только так, не иначе – его должно разрушить, чтобы возникла N; в этом-то и загвоздка: N никогда не сможет быть утверждена. Фам фаталь. N – не распад, но N обнаруживается в распаде, N – не отсутствие, но N является в исчезании.
N, в некотором роде, – метафора, но только в некотором роде. Иначе ее не изъяснить. Возможно, погоня за N есть преследование при помощи метафоры, погоня за N подобна поэтическому акту, который некоторые называют ситуацией вдохновения или экстатическим восторгом. Только и это сравнение крайне неточное, крайне ущербное. Если я и уподобляюсь поэту, то исключительно ради упрощения задачи; если я и похож на поэта, то на поэта стыдливого – такого, которому противно и стыдно все поэтическое в нем, и не пастернаковским образом – сама преследуемая сущность отвергает поэтическое, она тяготеет (и это заключение на основе только непосредственного опыта) скорее к религиозному, не в смысле поклонения, а в смысле следования – робкого и решительного одновременно. Божественная интермедия (межсезонье, время пыли и пыльные времена – вынимаю том Валери поплакать; не знаю по-французски и пользуюсь авторитетом переводчика, своего рода тоже преследователя) и по-божески лечь головой меж двух подушек – застрял между пятым и двадцать пятым в низотке. Низотка, по распространенному среди низинщиков/низотчиков/ низунов мнению, есть место максимального убытия N, но мне пути туда нет, пока нет, все еще нет: ни пути, ни дороги, ни вэйа. У бытия за пазухой. Запазуха бытия. Показухино пузо.
Я спускаюсь вниз по лестнице, где нет (еще) трав на месте трещин и сколов, но плотно забито мусором: окурками, фантиками, склянками. И дома (дома ли?) оставлена мать – семипудовая некупчиха, которая жаль, что не я; оставлена в болезненном состоянии (у нее нечто с ногами, что, по словам врачихи, такой же семипудовой, не мудрено при семи-то пудах) стоном отпугивать худо-бедных наемщиков дальней комнаты, а без наемщиков никак не выжить теперь, слишком прожорлива становится N, слишком откормлена становится своим искателем. Была студенточка – худа (как и все прочие), нечистоплотна, казалось бы, что хуже? и та не вытерпела – голова у нее, мол, пухнет, сессию сдать не может (тут, явное дело, не в стонах беда и не в запахе, но в общей студенточкиной нечистоплотности), – жаль, ходила цаплей по коридору, оставляя на полу кофейные подтеки, и пахла немытыми подмышками по всей кухне (в этой густоте чудилась было N, чудилось была). Был дворничик-бурят, так же худ, но щеками щекаст (работник зари), пил азербайджанский чай и уходил в темноту, подолгу занимал ванну (не промочить глаз послесонно, не продрать) и выл монгольское – ничего не говорил (он нем и косно изъяснялся записочками, особенно на бумажках, которые что ли воровал в ЖЭКе) и громко смеялся (и в этом молчаливом смехе казала свой длинный нос N, майоров нос из неленинградской повести, неюжной непоэмы непушкина (а мне, стало быть, быть назначено в присутствии к трем по поводу, разумеется, присутствия) про немаленького (все еще) нечеловека).
Была тетка, отцова сестра, на дух не переносившая некупчиху, но была мало, но мало быть и планировала, поскольку, сделавшись паломницей, собиралась посетить несколько монастырей в округе и одну церковь. Тетка замоталась в черное и пошла просить прощения к некупчихе по поводу некой застарелой истории, по поводу повода для обиды, но только пропахла мазью вишневского (некупчиха переняла привычку бурята молчать: не онемела, конечно, но дула щеки и хохотала, если устанет стонать) и уехала на такси просить того же у сил недосягаемых, но не настолько, как N.
Я же отправился к графине на поэтический (хотя собственно поэтического там было до обидного мало, хотя я и не сильно люблю, только если по-настоящему – да где уж теперь это настоящее (графиня, кстати, уверена, что где-нибудь непременно) присутствует?) вечер: много пили, много хохотали (по поводу, например, неожиданного послания в фейсбуке от Жоржика, который был кем-то убежден, что графиня умерла, и писал разубедиться), много вспоминали и вдруг выяснили (еще один повод для смеха, но заразительнее бурятского (некупчихино дешевое дрожание не в счет) я вряд ли когда услышу) нечто занятное относительно памяти или ее отсутствия: сличали друг дружные воспоминания двадцати или болеелетней давности по поводу случая, в свидетелях коего мы все (за редким исключением, хотя и обидным для исключенных) состояли, и ни один из рассказов не был явлен похожим на прежний (для чистоты в полной предрассказной тишине сделаны салфеточные записи).
После графини пришлось ехать на дачу (салфеточная запись внезапно указала место возможного столкновения/натолкновения с/на N; и вряд ли в этом возможном виднелась некая схема) и вспоминать путем/вэйэм недавнее послание Д., который просил позвонить ему в Бордо, где несколько лет назад выкупил у к смерти больного поэта-эмигранта квартирку и намертво в ней закрепился, чтобы спускаться вечерами к реке и там пить не вино, а водку, потому что привык (хотя я подозреваю, что скорее боялся обвинения в претензии, ибо неэмигрант, непоэт, нефранцуз), и рассказать про снесенный деревянный особняк в Уст. переулке, где напротив росла рябина (рябина, кстати, так и растет), возле которого тоскливо нам плакалось позднеосенним утром после танцев, водки, анаши в квартирке очередного его попечителя, когда внезапно вывалились из такси, за которое (не внезапно) оказалось нечем заплатить – и пузыри рябины, и облезшие доски особняка, и слёзы, и тоска, и (внезапное sic.) чувство отсутствия не только денег, про которое он всем потом рассказывал и, кажется, продолжает теперь.
Я спускаюсь вниз низа по спуску лестницы, лестничному спуску, я держусь за холодные перила, на коих остались еще пятна зеленой краски, в тон кроне, если и когда лето. Я наверняка знаю (см. пер. с дат. «иметь верное знание», ср. иметь скверное знание) о недостаточном отсутствии N даже в низовье: не зову, не плачу (плач над низиной, верховный стон, верховой вой, май долгий вэй по ж. дороге на дачу, где сирень и сарайчик (там заросли и дебри с тех пор, как некупчиха перестала ходить и взрыхлять)), не жалею, не думаю. Спускаясь к спуску, купил книгу в книжном и банку пива в пивном, чтобы по пути (помню лавочку, но не обнаруживаю, может быть, ее, как и особняк) выпить и читать из английской поэзии (по-английски я знаю, потому сам себе искатель – и все же чем дальше, тем жальче подобие), сидя под деревом, которое, покуда еще пыль, стоит ни за чем, не для меня стоит, качаясь и на ветру постанывая, что некупчиха, но та и не на ветру и почти не стоит. Выпить, читать и не думать, потому что о чем? потом и мыслей никаких, разве так – настроения: получить завтра деньги за комнату – запланировать покупку билета и обратно до станции Увр., там уже отмечено, но всё же, но всё же, тем более, давно не был, так что вдруг, а на дальше сил нет, денег, времени, мыслей, отвратительное желание, холодильник скоро сломается, ноутбук уже сломался. Буду ехать на станцию и читать из английской поэзии (еще останется) или Генона, все-таки особенно упоительно, если ехать на пригородном, читать и ухмыляться среди дачников и дачниц с кульками и корзинками. Или у себя, когда сам дачник, в зарослях под стрекот кузнечиков, жужжание жука и хруст хрущей, один других жирнее – гони, не отгонишь, – или в сарайчике с чаем, где руки не дошли/сил не хватило повесить липкую ленту, потому мухи, и какая-то даже привычка к мухам возникает, потом, если зной и сентябрь, курить возле пыльного окошка, возле облетающей паутины и снова – из такой-то поэзии… или радио, где тоже по-английски, словно окраины Ридинга и недача, или песни, или академическая, чтобы и не читать вовсе, а так – закрыть глаза (см. пер. с англ. «сомкнуты веки его, как уснул, дом без него, не его ли был дом? не его, и стул не его есть») и дышать пыль, и вот как будто бы нечто вспоминать (например, как Жоржик выудил из графини приличные деньги, где-то две, кажется, сотни на верное дело (ему немец что ли (немца в глаза не видел никто кроме Жоржика) предложил что-нибудь перекупить и перепродать, и снова перекупить, и снова, и снова), но как-то неудачно запнулся о торчащий из набережной штырь, ожидая немца (или шведа), и выронил сумку с деньгами в ранневесеннюю воду, нырнул (по его словам, а по мне, так сразу в уныние), поплыл и почти утоп (лежал в больнице с воспалением (надо полагать, воспалившимся от уныния, потому что воспаление в нем было до немца/шведа/ скандинава (или южанин, хотя южанину даже и Жоржик бы не поверил) и после), куда графиня вместе с Д. и со мной приносили ему водку и бразильский орех, и весело пили, свесив с лавочки (тут так и есть не обнаружена) ноги прямо в лужу, и закусывали из кулька), но не утоп и снова выудил из графини, которая про те постаралась забыть (все-таки Жоржик славно, не боясь усилить воспаление, изобразил Офелию в прибольничной луже), примерно столько (при всем том, кажется, патологически любил графиню) же или даже больше, но вроде бы нечто опять пошло не так) или не вспомнить (надо бы продолжить эксперимент графини), или вспоминать не то, что было (как всегда: завтрашний джем в английской провинции среди русских дачников), но то, что будет (как наиболее верный непуть к N), планирует быть, но посредству забавного свойства памяти уже было и никогда не повторится (вечно вчерашнее повидло русских джентльменов в английской пасторали), или так расфокусировать зрение, как солнце съедает полоску отдаленного леса/удаленного луга.
Я опускаюсь по спуску ведущей вниз низины лестницы, лестничный спуск по воспоминаемой листве будущего лета, хотя гниль и ошметки осеннего листопада возникают то и дело среди насоренного: окурков, фантиков, склянок (весело играющих на солнце/с солнцем/в солнце/солнце (пьяный Жоржик играл Офелию в луже, Д. играет поэта в квартирке мертвого неподдельного поэта-эмигранта в Бордо, куда поэт еще и едва живым удрал от премерзкой своей Лидии Николаевны) как солнце, спускающееся во внизовье), среди коих находима лежит десятирублевая монета, как прибавка.
И всё же настроения: идти на работу, быть рабочим, работающим, быть в работах, быть нанятым человеком, в нанятом состоянии, в нанятии находиться, ибо N прожорлива, ибо графиня потратилась на Жоржика (Жоржик, несмотря на разницу во времени, пишет графине каждое утро – у него, вероятно, ночь) и зареклась, но и мне в чужом нет нужды (см. пер. с нем. «чуждое чужое на чужбине, дру́гое друго́е на дороге» и ср. пер. с дат. «он глух ко мне и друг»), лучше быть в найменных/нэйменных/наименованных/ поименованных (см. пер. с англ. «и огласите его… и он стал оглашен пред взглядами нашими»), быть в прейскуранте, быть проскомидированным. Нужно быть в работе, нужно ходить в работу, присутствовать в присутствии, подзаработать заработок. И в путешествие, странствие на подзаработанное, приработанное, проработанное, уработанное, сработанное с работопожалователя, найменшика, нэйменщика, арендатора имени или обретателя (это, конечно, повод для мысли, но можно ли что-то обрести от жителя руин?). Идти путьми за N, странничать странами, предшествовать и послешествовать, влачиться волостьми, волоситься властвовать над низовниками/ низинщиками/низунцами. Странницами и странцами по страницам из стороны в сторону сторониться сторонников страны стран, чужбины чужбин, другого других, друга другов.
И где бы тебе выдали место?
Другая езда в остров любви
ежели творец замысловат был,
то переводчику замысловатее надлежит быть
В. К. ТредиаковскийА в мужниных устах она становилась Люсеттой, etc., etc.
Etc., что значит: напыщенный и насыщенный цветастыми метафорами и аллитерациями дрожащих абзац о сердечных заботах (от зыби к озябанию) девы и мужа ее, в цветах увенчанного.
Но, что ценно для двоих, место забот покоилось не занято.
Люсетта, производное от Людмилы, – имя домашнее или даже шифр, исключительно его к ней обращение, подчеркнуто исключительное, и не потому, что оригинал ей никогда не нравился (или даже раздражал – в школьной юности она подписывалась Люсиль М., вычурно под вычурными и неуклюжими столбцами верлибра), но по особенности его положения – некоторого выпадения из ряда ее многочисленных товарищей и товарок.
Он – заочный аспирант и в университетских коридорах появляется редко, но несмотря на это, становится ею отмечен в один из первых дней первого курса – пронеслась, промелькнула над всеми (помимо всех) его темная курчавая голова, отрешенная, замкнутая в себе самой. Потом она путается и плутает, утверждая, что ни разу его не видела до кафедральной встречи, бывшей сильно позже описанных событий, то есть когда она сама готовила кандидатскую к защите. Но тут, конечно, можно отразить удар тем, что он к тому времени – сам кандидат, уже оставил службу в толстых журналах и года три (если не четыре) преподавал, более того имел непосредственные отношения с ее научным руководителем, – и она просто обязана была его отметить, заметить, etc. Другое – отражать удары не всегда хотелось, и первый разговор состоялся именно на кафедре: пил чай возле окна, кажется, заклеенного и законопаченного на зиму (она говорит про июнь) – сидела на диване и, постукивая острым носком туфли, ждала неизвестного. Нескончаемые исчисления поэтических имен и невразумительная болтовня вокруг недавнего происшествия – преподаватель был удушен в своем подъезде студентом-неудачником (студента потом признали душевнобольным, а насчет оригинальности известной работы удушенного подняли большой спор). Далее были те самые многочисленные ровесники (ее, не его) и студенты – перво-, второкурсники, – самый старший – Игорь, мордатый (толстоватый, в ее варианте), все равно был моложе, – и мужу приходилось слишком (более чем… он, что называется, испил сей стакан) за свою уже-не-юность переживать. Но то было единственным, в чем она могла мужа упрекнуть – он не давал поводов к любимому ее занятию, зато никогда не был кем-то из них, затаившихся на групповой фотографии, равно как не был и кем-то из других, фотографий с которыми она избегала вовсе, – у него были свои интересы.
Люсеттой она стала как бы в ответ на те самые возрастные колкости: она ему старик, он ей – поэт. вульгарность: Люсетта и султан, Люсетта и великая французская революция, Люсетта утопилась, Люсетта возвращается домой. Тут, кстати, возникает (особый, что называется) интерес к эволюции имени: после Люсиль появилась Люся Море (верлибр сменила ироническая стилизация), потом Л. и только затем Людмила (никакой иронии, никакой игры). И еще, к слову, муж несколько раз интересовался, а как, мол, говорят они, как называют ее, ведя, допустим, указательным пальцем от пупа к нижней губе, дабы скользнуть меж склизких зубов под самый язык. Она не отвечала, но проговаривалась: вроде как Люся (Люсетта вздрагивала и кривилась), и даже более того (однажды): ей нравится или она сама того просит. А вот и повод для мужниной обиды, дружеской ссоры (тарелки не летели, но ваза пострадала): Люсеттой Мариной она подписала собрание стилизованных под похабные моряцкие песни стихов. И ладно подпись, но именно это стало первой (единственной) выпущенной ее книгой, хотя в издательстве темном и сомнительной репутации. Ирония, издевка и его успокоение – мужнина Люсетта оказалась куда привлекательней Людмилы, про которую, собственно, даже не скажешь, чья она есть, – ее, Людмилины, стихи появлялись по одиночке (реже парой) в журнальных публикациях раз или два за год и никакого энтузиазма у издателей не вызывали, в отличие от ее научных и/или критических работ, тоже где-то в связи с поэзией.
Люсетте это смешным не казалось, то есть теперь она даже не переживала, в тридцать три понимание куда важнее, по ее словам, чем… и она задумывалась, и проваливалась в дурную рекурсию, и продолжала сидеть на диване, постукивая туфлей и поглядывая на часы, пока муж измерял глубину внезапно обнаруженного болота. Но у него, а это важно, свои интересы, т. е. во многом их интересы совпадают, и не только в области современной поэзии, – подмигивание, улыбка, и вот она уже всплеснула руками и, скрипнув, хлопнув дверью, застучала всё быстрее и быстрее каблуками по пустому университетскому коридору, где (наверняка) в перемену-перебивку, когда пустота восполнится, она обнаружит другую голову, которая и помимо, и поверх (то, что всегда ее, т. е. еще один способ восполнения), и взамен, но в отличие от мужниной не все интересы разделяюща, только (и вот он снова углядел иронию) колкости будут отпущены теперь ей и, возможно, самой ей.
Удивительно и странно для поэта, по свидетельству мужа, бездарного (для свидетельства у мужа были все его основания), а для литературоведа еще удивительнее: книг ни Людмила, ни Люсетта, ни даже Люся читать не любила (Люся в виде исключения любила слушать стихи или стишки (sic.) всегда нынче юных, пегих (гутен хам, что значит: славный окорок, детка) и пряных своих трахальщиков, мальчиков-под-лязг-бокальчиков). Дело не в любви – дело в страхе, в болезни, в боязни, в болязни – так муж подглядел в некотором черновике, что лежал забыт на диване в гостиной, там же продуктовая метафора: луковица романа, облезлые слои, за коими кукиш, ничто, дырка – все, что осталось от обгрызенного бублика. Еще раз луковица Романа: и некий Роман (студентик, положил муж), стягивающий с нее трусы. Никакой, след. заметить, ревности тут не было, по крайней мере, к луковице. Мужа в этой проблеме интересовало иное: Л., как человек, с теорией литературы знакомый не одним глазом, должна понимать – никакого истлевания, исчезания в процессе чтения не происходит, а происходит нечто обратное, но Л. отмахивалась, утверждая вместо читателя визионера, коему достаточным для прыжка поводом окажется название. Или вот (еще одна нелепица/не лепится): любая история, утверждала Л., в миллионы раз меньше истинных событий, положенных в ее основание. Умоляю, Люсетта, истинные события – это и есть сама история, вся целиком, до каждой паузы и запинки, – улыбка, отмашка. Но это, что называется, мужнина преамбула, которая почти целиком сама Люсетта, пусть и появляется/стучится иной раз кто-нибудь другая: Люсьен, Мила, Людочка и ни то, ни другое, ни третье.
Люсетта же нервно спала в кресле под торшером и как бы в бреду мешала мужу тем, чего сама же болезненно боялась, хотя (по мужу) находила некоторую увертку в виде якобы полуночного бреда: обрывки, оговорки, преувеличенные частности (подробное, например, описание кроватной спинки или ресницы, плавающей в глазу Д.) и преуменьшен-ные общности. Но могла ли она представить, что он/ муж/слушатель в качестве предутреннего теперь уже бреда собирает из этих арабесок вполне себе завершенный и годный в употребление витраж? И, более того, делает вывод – ему лестный (но не более), она же будет отнекиваться в очередной раз, мол, никакой курчаво-смуглой головы там и тогда она не видела, а если бы и видела, то все бы поняла еще тогда и там, и оно очевидно, и очевидно до неприличия; тут она, конечно, преувеличивает – ему бы только улыбаться, ей раздражаться и шикать со злости, взмахивая руками.
В полуночных обрывках/отголосках/следах нарратива на протяжении зимы настойчивым паттерном проявлялся Д. (вычурный французский вариант Даниила или Данилы) – настойчивость стала непереносимой на исходе, как помнилось мужу, января, поскольку в ней обнаружилась вовсе для Л. не свойственная привязанность: трахальщики появлялись и уходили, могли идти вереницами самых разных имен (запомнилось: Пэтр, Митра, Кармайкл, Добромир, Ральф, Жюстин, Клариса), но никогда не повторялись, разве некто Вано прочерчивал зигзагообразный узор в этой проскомидии без края; Д. не исчезал. Исчезал сон, и Люсетта писала до утра, исчезал бред, и Люсетта спала до обеда, исчезали, в конце концов, списки. Д. не исчезал. И что оставалось бедному мужу, бедному и старому (тут ему около сорока, но в сравнении с ними – студентики, как считается, никогда не стареют, – и в этой нескончаемой весне живи, человеческое в нечеловеческом), измученному ильмовым кошмаром жены? Выследить подлеца, истребить и забыть. Покуда подлец не стал мороком их общим. Преследование – февральское досужее мужа, благо, жена с каждой ночью все глубже погружалась в ужас вспоминания – так к началу мая муж обзаводится вполне подробной (на деле худой и бедной) картой ее полуночного бреда.
И вот Л. едет куда-то (допустим, в Калугу или Тверь), главное, что едет от центра. Она говорит: прочь, дальше. Едет куда-то (вероятно, конференция), главное, что по делу, по некоторой причине. И вот Л. сидит в просторной, но душной и пыльной аудитории, пытаясь средоточить внимание на докладчике – внимание рассыпается/засыпается. Докладчик простирается за кафедрой и бородат не по годам (Люсетта обзывает его джутовым джентльменом) с бородавкой на лбу и протертыми локтями пиджака – над пиджатчиком жужжит муха. Муха не унимается. Л. гадает, кто же ей больше опротивел. За ними шершавая зелень доски. И Л. смотрит в окно, где зелень другая. Июнь. Тут показания никогда не плутают. Думает о сне, думает о гостиничном номере, где скрипучая кровать (две одноместных), полированный шкаф-пенал и обширная ванна, в которой ночью лязгается слушать стишки, и вязко смотрит в окно. И вот она: Люсетта, или уже Люся, или еще Людмила, утопающий взгляд которой он мог бы заметить в новости бликующего стекла, смотрит туда, где среди кустов и дубов столпотворят студенты и студентки. А он, одинок, долговяз и покоен, вдумчиво покачивается в глубине вздыбленного портика, по разреженному стуку правого ботинка о брусчатку и частому подниманию-опусканию головы (смуглой-курчавой (тогда лишь догадка, мужнино додумывание и лесть самому себе (как и вся сцена, впрочем, тоже) – он ни разу (!) не лез в ее записные книжки, телефоны и дружеско-любовный эпистолярий) она делает догадку (как бы в ответ мужу – кто раньше?), будто он ожидает; его волосы шевелит сквозящий меж колонн ветер, попутно задувая в глаза пыль и песок, отчего он, устав жмуриться, поднимает голову, и обнаруживается радужка цвета липового меда и вместе с ней странная порывистость, которая отдается покалыванием в пятках и сухостью во рту, и праздничность, усиленная полуулыбкой его узких губ и узорчатой тенью остролистного клена на его вздуваемой белой рубашке; он глубоко дышит, вжимая ладони в карманы темных брюк. И вот он: как бы врывается в сумеречную зелень приинститутского сквера худым своим (своим!), праздничным своим, одиноким (отделенным своим) телом. Л. силится как-то его назвать, обозначить, дать ему имя, предугадать, еще больше – обозначить себя подле, продлить Л. Тень от дерева, тень от куста, пыль – это дневное, в сумерках все расплывается/сливается, вплавляется друг в друга – дерево в тень, тень в дерево, зелень плывет в него. Отделим лишь фонтан: но брызги словно не падают на лоб, а проступают – и уже он сам есть фонтан. И бронзовый бюст (допустим, Кирова или Энгельса) склоняется над его полной праздничностью/ полой будничностью и пристально вглядывается в приоткрытый, полный ожидания ледяной газировки рот. Тут Л. подмечает духоту, навязчивую непроветриваемость ночи и, как бы пытаясь миновать ее, подходит к фонтану. И вот они: уже о чем-то говорят. Л., вероятно, просит сигарету, или, вероятно, ей нечего уже просить. И Л. как бы зависает и над собой, и над ним, как бы видит сверху/снизу/со всех сторон и боков, но он не называет ее, и даже не идет за ней (те бегут, только рукой махни (Пэтр, Микаэль, Долли, Герда – ледяное сердце), но тех она видит разве что снизу, а чаще в разрезе). Она движется по пятам. Волочится.




