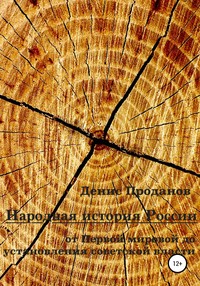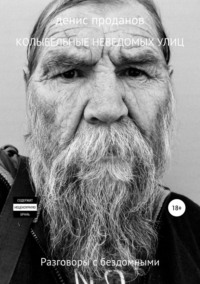Полная версия
Народная история России. Том II. Устои советской диктатуры
Эта краткосрочность, положение перманентной чрезвычайности и неопределённости в будущем наложили глубокий отпечаток на нравы. Они определили и небрежное отношение населения к жилью. Ситуация усугублялась тем, что людей постоянно уплотняли, переселяли, выгоняли и переводили с одного места жительства на другое. Жильцам не давали привыкнуть к своему жилищу, почувствовать себя в нём как дома.
Согласно коммунистической доктрине, граждане нового мира должны были жить со дня на день, без комфорта и привязанностей. Идея эта напоминала заезженный стереотип о подпольщике-революционере, который вечно скрывался от Охранки. И всё же эта идея была в большом ходу. Хотя сами советские правители уже давно вышли из подполья, романтика революционности и презрение к мещанству активно пропагандировались режимом и насаждались в обществе.
В широких слоях уют стал рассматриваться как нечто декадентское, буржуазное. Уют стал чем-то, совершенно не соответствующим нормам эпохи. Чем-то, чего людям приходилось стыдиться. Более того, при обыске чистота косвенно указывала на сословное происхождение жильца. Это было чревато роковыми последствиями. Поэтому некоторые жильцы намеренно перестали убираться дома. Они пытались слиться с общей массой и маскировали своё социальное происхождение непролазной грязью.
Так выпускница Смольного института Н. С. Горская откровенно призналась, что они в семье старались не подметать, и на полу валялся сор. Родные Горской даже собирали шелуху от подсолнухов на улице, которою те были засыпаны, и приносили и посыпали у себя дома. Горская заключила: „Вообще старались, чтобы был у нас беспорядок.“[230]
Пример этот даёт тонкую характеристику эпохе „военного коммунизма“. В квартирах оптический эффект слияния с грязными мостовыми служил отличным камуфляжем семейной родословной. Очередной удар в РСФСР был нанесён по приватной сфере населения. В атмосфере коллективизма частная сфера стала идеологически сомнительной категорией. Индивидуализм стал рассматриваться режимом как ересь.
Отчасти это объяснение крылось в том, что революция совершалась публично, при всём честном народе. Поэтому, по мнению советских руководителей, по новой хронологии всё должно было происходить на виду. Жилищная политика советского строя стала наглядным отражением этого принципа. Наконец, в атмосфере недоверия и паранойи следить за населением через домкомы и домкомбеды в условиях скученности было проще.
В этом отношении полезен эпизод, описанный М. Д. Врангель. Современница вспоминала, как приватная сфера стала уменьшаться. Пожилая Врангель отметила, что председатель домового комитета, надо думать, блюдя порядок, то и дело захаживал к жильцам: „Явившись как-то ко мне, увидел портреты сына в военных доспехах, приказал немедленно все их убрать, предупреждая, что если зайдёт и увидит и в следующий раз 'генералов', без разговоров отправит меня с портретами в Чека. Я немедленно переслала их на хранение к знакомому присяжному поверенному.“[231]
В жилищной политике России необходимо различать коммунарный и государственнический подходы к жилью. Первый основан на добровольном сожительстве, обобществлении имущества и труда людей, близких по духу и убеждениям. Он, как правило, весьма успешен. Второй же подход, характерный для советского строя, был основан на принудительности. Он насаждался сверху, вопреки воле граждан и вёл к скученности, конфликтам и ненависти к соседям.[232]
Характерно, что при уплотнениях выбирать себе соседей не разрешалось. Официально выбирать себе сожителей по жилью Совнарком разрешил лишь после тысяч выселений, конфискаций и унижений: декретом от 25 мая 1920 года. Декрет этот назывался „О мерах правильного распределения жилищ среди трудящегося населения.“[233]
Выпущенный в целях „оздоровления“ жилищных условий, декрет диктовал: „При уплотнениях гражданам даётся двухнедельный срок для подыскания себе сожителей.“[234] Если человек не успевал подселить к себе жильца, Жилищно-Земельный отдел производил принудительное уплотнение за него.
В годы „военного коммунизма“ населению пришлось сильно потесниться в своих квартирах. Причём не только для красноармейцев, матросов и рабочих, но и для многочисленной советской бюрократии, чекистов и представителей коммунистических ведомств, организаций и институтов. Общественный деятель и публицист Г. Н. Трубецкой заметил, что обыкновенно, с парадного хода было какое-нибудь учреждение или жил большевистский чин, а с чёрного хода, рядом с кухней, ютился хозяин.[235]
Важными проводниками жилищной политики государства и того, как „следовало жить“ при новом режиме, стали домовые комитеты (домкомы). Первые домовые комитеты появились после Февральской революции. Задача домкомов заключалась в облегчении жизни жильцов квартир в условиях империалистической войны через совместную добычу продуктов потребления.[236] Домкомы были демократическими ячейками, низовыми системами самоорганизации.[237]
После отмены домовладения советская власть оказалась не в состоянии организовавать домовое хозяйство. Она имела для этого соответствующего аппарата. Управление домами пришлось передать домовым комитетам.[238] Однако ряд домкомов оказал организованное сопротивление большевистскому диктату и его политике экспроприации жилья. Домовые комитеты не хотели становиться орудием посягательства на чужую собственность.[239]
Решение советской власти о запрете взноса квартирной платы домовладельцам было многими принято в штыки. Члены домкомов считали, что вопрос об уничтожении частной собственности на недвижимость может быть разрешен только предстоящим Учредительным Собранием. Они называли распоряжение власти незаконным и не подлежащим исполнению домовыми комитетами.[240]
Как отмечалось в исследовании „Красная Москва“, первые четыре-пять месяцев после Октябрьского переворота прошли в борьбе Жилищного Совета с домовыми комитетами. Доходило до арестов и репрессий против саботажа.[241] В конечном счёте домовые комитеты были вынуждены подчиниться силе и взять на себя управление домами. Однако, вопреки обещаниям коммунистов, никакой автономии домкомы не получили.
Напротив, домкомы попали под усиленное давление режима. Они были вынуждены выполнять всё больше обязанностей. К ним относились раздачи галошных, мануфактурных и детских карточек, подачи сведений об имущественном положении квартирантов, информирования милицейского комиссариата обо всех автомобилях, находящихся во дворах и около домов в ночное время, и о подозрительных автомобилях днём.[242]
Распределение хлеба через домкомы стало дополнительным механизмом правительственного контроля.[243] Домкомы неизбежно заболели казённостью, свойственной всем советским учреждениям.[244]
Профессор В. В. Стратонов констатировал, что домовые комитеты стали мало-помалу изменять свое первоначальное назначение. По словам современника, они обращались в типичные полицейские участки былого времени: „На них сваливалась вся работа по приведению в исполнение постановлений советской власти, по выдаче всевозможных справок и удостоверений, по заведыванию общественными работами, по надзору за жильцами, присутствие при обысках и арестах в доме и т. п. Нередко бывали случаи, когда председатели домовых комитетов объявлялись лично ответственными перед большевицкой властью за те или иные дефекты по дому и даже за проступки жильцов.“[245]
Домовые комитеты были планомерно превращены в жилищных агентов советского строя.[246] Они были сделаны сообщниками диктатуры в уплотнениях и выселениях. Со временем требования властей возрасли ещё больше. Несмотря на то, что председатели домкомов и так были вынуждены идти на поводу у РКП(б), партия политизировала домкомы методом искусственной пролетаризации.
С осени 1918 года РКП(б) вместо прежних домовых комитетов стала насаждать домовые комитеты бедноты. И если раньше у домовых комитетов была хотя бы тень независимости, то домовые комитеты бедноты превратились в послушные инструменты социального контроля.[247]
Как становится ясно уже из названия, домовые комитеты бедноты (домкомбеды) отдавали предпочтение „низам“ из рабочих. Домкомбедам негласно разрешалось притеснять буржуазию и всех, кто отдалённо на неё походил. „Положение о домовых комитетах бедноты гор. Петрограда и его пригородов“ предписывало „наблюдение за буржуазным населением домов“, то есть слежку. Согласно положению, неисполнение предписания сурово каралось.[248]
Директивы советского режима в центрах и в регионах предоставляли домкомбедам всё больше и больше власти. Интеллигентка О. И. Вендрых описала последствия этого процесса: „Часов в 12 ночи стучат в дверь (в Петрограде звонков нет, стучат палкой, кулаком или каблуком), оказывается стучит Председатель Домового Комитета Бедноты и наряжает идти к 6-ти часам утра в Комендатуру. Там Вас держат часов до двенадцати да и затем партиями отправляют на разные работы, например: сломка деревянных домов для топлива Советских учреждений. Рубка и погрузка вагонов лесом.“[249]
Многие исторические исследователи справедливо указывают на то, что считать домкомбеды периода „военного коммунизма“ органами самоуправления нельзя. Отдел управления жестко регламентировал деятельность домкомбедов. Главной целью их создания являлось не ведение хозяйства, а контроль за выполнением распоряжений советской власти и наблюдение за жильцами с целью недопущения контрреволюционных собраний, укрывательства предполагаемых белогвардейцев и шпионов, а также доставки мешочниками продовольствия.[250]
Городской быт стремительно трансформировался в ходе выселений, переселений, конфискаций имущества, экспроприаций и вторжения домкомов и домкомбедов в частную сферу жильцов. Слежка и доносительство стали важными чертами советского уклада.
Быт послеоктябрьской поры носил и другие отличительные черты. В частности, постоянные сбои в поставках электроэнергии и холод. Топливный кризис в стране привёл к тому, что в городах стали отключать электричество и отопление. Молодая республика оказалась отрезана от нефтяных районов Северного Кавказа, Донецкого и Уральского угольных бассейнов.[251]
Электрические станции и газовые заводы испытывали острый дефицит в топливе. Это отразилось на всех абонентах газовой- и электроэнергии. Уже 13 (26) ноября 1917 года Военно-революционный комитет выпустил предписание всем районным Советам, всем комиссарам, штабу Красной гвардии и коменданту Петрограда. В нём говорилось об ограничении отпуска энергии лишь шестью часами в сутки за исключением двух дней в неделю из-за недостатка топлива на электростанциях.[252]
Далее в предписании указывалось: „Долг каждого гражданина поэтому следить за тем, чтобы без особой надобности электрические лампочки не зажигались и чтобы вообще электрическая энергия не расходовалась без крайней к тому необходимости.“[253]
Постановление ВРК также обращало внимание на то, что владельцы многих торгово-промышленных заведений при закрытии магазинов оставляли гореть свет на ночь и в выходные. Ввиду этого всех владельцев торгово-промышленных заведений обязали выключать свет по окончании работы. До сведения торговцев доводили, что виновные в неисполнении будут привлекаться к ответственности.[254]
Чины милиции, дежурные постовые, караульные солдаты и красногвардейцы были обязаны сообщать районным Советам адреса запертых магазинов, в которых горели электрические лампочки. После этого составлялись протоколы. Владельцам и управляющим магазинов выписывались штрафы. Отказывающиеся оплатить штраф добровольно подлежали аресту.[255]
Несмотря на подобные акции, нехватка электроэнергии в стране давала о себе знать. В конце 1917 – начале 1918 годов в квартирах постоянно отключали электроэнергию. Художник А. Н. Бенуа отметил, что капризы электричества в эту темнейшую пору года действовали убийственно: „Сегодня электричество зажглось в 4 ч., но погасло в семь с половиной, снова зажглось в восемь с четвертью и уже совсем погасло в 10 ч. Я вижу в этом обещание гораздо более серьезных бед. Темнота действует даже на неисправимый до сих пор оптимизм Акицы. Даже она приуныла.“[256]
Тьма в квартирах соединялась с невероятным холодом.[257] С января 1918 года уличное освещение столицы было также доведено до минимума. Свет подавался через три фонаря на четвёртый. Фонари поздно зажигались и рано тушились.[258]
Плата за телефон в результате нехватки электроэнергии тоже резко увеличилась. Пользование телефоном стремительно превратилось в роскошь. В начале 1918 года плата по телефонным счетам достигла 360 рублей в год и продолжала подниматься в цене.[259] Прекращение телефонной связи усилило чувство общественной изоляции.
Перебои с топливом вызывали у граждан всё большие опасения. Керосином в первую очередь обеспечивали армию. В тылу же снабжение населения керосином было недостаточным. За керосином приходилось долго стоять в очередях.[260]
Петроградская газета „Наш век“ опубликовала на эту тему характерную заметку. В ней констатировалось, что 12 (25) января 1918 на углу Лермонтовского и Канонерской улицы, у одной из съестных лавок в очереди за керосином стояло несколько сот человек. Когда около 18.00 объявили, что керосина больше нет, среди женщин, продежуривших весь день, началось сильное волнение. Скоро к очереди было направлено несколько красногвардейцев. Залпами в воздух они рассеяли толпу.[261]
Подобные метаморфозы стали итогом длительного процесса сокращения работы топливной индустрии. Система топливного обеспечения России пережила заметный спад ещё до Февральской революции. В империалистическую войну топливно-энергетический комплекс пришлось перепрофилировать через диверсификацию ресурсов. С 1916 по 1920 год доля каменного угля понизилась с 67 % до 36 %, а нефти – с 19 % до 10 %. Доля дров выросла с 14 % до 50 %.[262]
Продвижение Центральных держав резко ухудшило топливное положение страны. В Подмосковном бассейне государство организовало добычу угля, торфа и сланцев.[263] С наступлением холодов большевистским властям пришлось срочно ускорить осуществление дровяных заготовок в ближайших к городам рощах.[264] Леса и рощи стали вырубать. Советская власть была вынуждена спешно создавать трудовые артели по заготовке древесины.
После англо-французской интервенции в Мурманске и Архангельске весной-летом 1918 года РСФСР оказалась отрезана от богатых лесных ресурсов севера. Основные лесозаготовки северо-запада оказались сконцентрированы в Карелии. Согласно официальным данным, в январе 1919 года в Олонецкой губернии работало 270 трудовых артелей. Эти артели насчитывали 45 000 членов. Всего на лесозаготовках в это время было занято 65 тысяч рабочих.[265]
В результате нехватки рабочих рук в декабре 1918 года коммунистический режим приостановил призыв в армию всех работников топливной промышленности. Постановление касалось лесорубов, лесовозов, торфяников и углекопов.[266] Как констатировало одно советское исследование, прогрессирующее истощение лесных площадей в районе транспортных артерий было несомненным фактом.[267]
После Октября распределение всех видов древесного, торфяного и минерального (твердого и жидкого) топлива, а также бензина, керосина, газолина и смазочных масел в РСФРС было централизовано. Распределение подчинялось Главному топливному комитету (Главтопу). Нарушение каралось по всей строгости революционных законов.[268]
Несмотря на введение жёстких мер, советский режим был по-прежнему отрезан от нефти линией фронта. Недостаток сырья остановил металлургическую промышленность и привёл к простоям на городских электростанциях. Ряд крупных заводов Петрограда и других индустриальных центров страны пришлось закрыть из-за недостатка топлива. Десятки тысяч рабочих остались без работы.[269] Позже, в апреле 1919 года В. И. Ленин признался, что нужда в нефти была „отчаянная“.[270]
Дефицит топлива и электроэнергии саметно отразился на жизни городов. В Воронеже из-за острой нужды в бензине была запрещена езда на автомобилях как в войсковых учреждениях, так и частным лицам. Пользование автомобильным транспортом разрешалось только в исключительных случаях, по ордеру Военного отдела.[271]
Из-за дефицита электроэнергии лифтов в городах действовало всё меньше. Позже подъёмники и вовсе остановились. С каждым месяцем вследствие недоедания горожан и физического изнурения подниматься по лестнице на верхние этажи становилось всё тяжелее.[272]
Из-за острого недостатка автомобильного топлива население столкнулось с новой напастью. В Петрограде, к примеру, служба Скорой помощи была вынуждена сократить свою деятельность до минимума. 29 мая 1918 года газета „Вечернее слово“ опубликовала красноречивую заметку „У 'Скорой помощи' нет бензина.“[273]
Приостановка работы экстренных бригад на пике инфекционных заболеваний была сродни катастрофе. В разгар тифозной эпидемии эпидемический отдел Скорой помощи сильно помог петроградскому населению в деле перевозки заболевших и дезинфекции заражённых помещений.[274] Теперь же большинство машин было обездвижено.
В городских больницах дело обстояло не лучше. Инженер-железнодорожник Ю. В. Ломоносов вспоминал, как в конце декабря 1919 года Москва погрузилась во мрак: не было ни тока, ни свечей. По словам советского деятеля, в родильных приютах женщины рожали в потёмках, а в больницах необходимейшие операции откладывались до утра.[275]
Острый дефицит электроэнергии прослеживался на протяжении всей Гражданской войны. В той или иной мере он охватил все городские центры республики.[276] В ряде городов вроде Самары властям за отсутствием тока пришлось закрывать кинотеатры и бани.[277],[278]
Городской транспорт также пострадал от нехватки электроэнергии сильнейшим образом. Остановка электростанций и снежные завалы на улицах вели к тому, что и без того редкое трамвайное движение то и дело оказывалось парализовано.[279],[280] Весной 1919 года в Москве трамвайное движение совершенно замерло. По сообщениям прессы, из-за отсутствия электроэнергии вагоны трамваев даже не могли вывезти в парки. Они так и стояли на улицах там, где остановились в момент прекращения тока.[281]
С остановкой электроэнергии в городах пассажирам трамваев приходилось выходить из вагонов и продолжать свой путь пешком по городу. При отсутствии извозчиков эти изнуряющие переходы могли продолжаться часами. Они происходили и в непогоду: и в дождь, и в град, и в метель. По сообщениям современников, они были тяжелы.[282],[283]
Поэт Сергей Спасский вспоминал, что не связанная трамваями Москва представлялась расползшейся и громадной. По свидетельству Спасского, расстояния приобрели первобытную ощутимую протяженность. В своём передвижении по городу мемуарист выработал технику сокращений и пользовался переплетениями переулков. Он писал: „Сколько раз я проделал этот путь в течение ближайшего времени!“[284]
Электричество в домах давалось с перебоями на час, на два. Свидетельница тех лет писала, что если электричество горело весь вечер и ночь, сердца обывателей сжимались в смертельном ужасе: это означало, что в квартире шли обыски.[285] Обыски сопровождались арестами.[286] Обыски, конфискации и заключения под стражу пользовались приоритетом Совнаркома. Для этого электроэнергии и автомобильного топлива на жалели.
Кризис топливного снабжения в постреволюционные годы стал синонимом постылого, унылого холода. С отключением отопления паралич начал сковывать города и посёлки страны. Примусы и керосинки были хозяевами кухонь того времени. Но с дефицитом керосина и нехваткой керосиновых ламп и тем, и другим пришлось искать замену.[287],[288]
Экономист А. С. Посников отметил, что в деревне местами опять пошла в ход лучина, и женщины сняли с чердака давно забытые светцы.[289] Топливный голод компенсировался интенсивным использованием дров для отопления примитивных печурок. Необходимость в резком увеличении дровяных заготовок стала толчком к мобилизации населения. Отсутствие отопления было настолько злободневным, что весной 1919 года властью обсуждался проект декрета о постепенной замене налоговой системы трудовой повинностью по заготовке топлива.[290]
При советской власти каждая зима превращалась в неистовую борьбу за выживание. Описывая атмосферу отчаяния в стране, писательница Рашель Хин-Гольдовская отметила, что было темно, холодно и грязно. Свидетельница записала в своём дневнике: „Мне часто кажется, что мы уже не живые люди, а старые автоматы. Вот-вот заржавленный механизм остановится и мы повалимся.“[291]
В зимние месяцы кирпичные и каменные стены жилищ впитывали холод до такой степени, что температура внутри и снаружи домов отличалась всего на несколько градусов. Стужа в квартирах была неотступной. Поэтому зимой порчи продуктов в жилищах можно было не бояться.[292] Один мемуарист выразительно подметил, что частные дома и многоквартирные здания напоминали холодильники.[293]
Из-за холода жильцы были вынуждены носить дома пальто и шапку, одевать шарф и спать, не раздеваясь. Многие одевали на себя по нескольку свитеров и кофт.[294] Художник Юрий Анненков писал в своих воспоминаниях, что с приходом зимы он ложился спать в тулупе и валенках, в барашковой шапке, накрываясь одеялами и коврами. К утру металлический остов кровати, брови и ресницы Анненкова покрывались крепким инеем, а самогонная химия уже не помогала.[295]
Из-за отсутствия отопления целые городские кварталы оставались без обогрева. По свидетельству очевидцев, особенно гибли люди в домах с центральным отоплением.[296] О том, какая фантастическая разруха воцарилась в стране через полтора года после Октябрьского переворота, говорит обращение Всероссийского Союза Инженеров. Обращение это было сделано в марте 1919 года. Оно называлось „Куда ведёт Россию голод.“ В нём авторы описывали картину ошеломляющих лишений, голода и резкого ухудшения санитарных условий жизни городов.[297]
Всероссийский Союз Инженеров доводил до сведения населения, что индустрия, стоящая во главе социального государства, постепенно отодвигалась на задний план и заменялась первобытным способом труда с характером кустарного производства: „Город теряет облик культурного руководящего центра и принимает вид поселка первобытного человека, где вся умственная и физическая энергия направлена на удовлетворение только животных потребностей.“[298]
Борьба за существование сводилась лишь к утолению голода и поиску тепла. Екатерина Эйгес, работавшая библеотекаршей и живущая в общежитии, вспоминала, что в комнате у неё становилось все холодней. По словам мемуаристки, до металлических предметов нельзя было дотронуться, они жгли пальцы.[299]
К концу зимы 1919 года холод в комнате Эйгес стоял такой, что жить в ней стало невозможно. Свидетельница эпохи призналась, что при дыхании виден был пар, а ложиться на холодные простыни было жутко, точно в прорубь. Подаренные ей крупные зерна пшеницы Эйгес слегка разваривала на плите, заворачивала в бумагу и клала под подушку. Каша доваривалась и от этого слегка согревала постель. В конечном счёте начальство сжалилось над библиотекаршей. Её перевели в другую комнату, на пятый этаж.[300]
Новая комната была не так комфортабельна, как первая. Она была узкой и длинной, с одним окном на двор, узким проходом между кроватью и шкафом, столом и диванчиком. Но зато в ней было тепло как в бане. Узнав об этом, к Эйгес стали приходить люди, чтобы погреться.[301]
Холод стал неизменным рефреном первых лет коммунистического правления. В 1920 году в Петрограде было настолько холодно, что священники в храмах совершали летургию в перчатках и ризах на шубах. Писатель В. Б. Шкловский констатировал, что полярный круг стал реальностью и проходил где-то около Невского.[302]
В Москве отключение отопления также привело к резкому снижению температуры и хроническому ознобу. Поэт Рюрик Ивнев вспоминал, как в 1920 году он приехал в столицу со своим другом Гоги Гиевским. Они остановились в зашарпанном номере гостиницы „Русь“. Ивнев засвидетельствовал, что до тех пор, пока они не достали дров, они спали на одной кровати, навалив на себя весь их гардероб и жалея, что нельзя сверх этого укрыться ещё и креслом.[303]
Жителям других губерний приходилось не легче. К примеру, в Оренбурге зимой 1920 года также были отмечены сильные холода. Большевик А. Г. Зверев, который учился на Красного командира, с десятками других курсантов поместился в бывшем помещении юнкерского училища. Окна в училище были разбиты.[304] Зверев вспоминал, как ночью нестерпимый мороз погнал курсантов из нетопленных казарм. Они отправились на пустырь возле кладбища ломать деревянные заборы для отопления.[305]
Зима не делала поблажек ни на идеологию, ни на разруху, ни на отсутствие горючего. Историк Ю. В. Готье вспоминал, что это был „быт эскимосов и самоедов.“[306] Весьма точно трагизм ситуации в стране выразила уроженка Курска, эсерка Е. Л. Олицкая. В своих воспоминаниях она отметила, что жизнь становилась „пещерной“, но никто не смел об этом говорить.[307]
Ещё один наблюдательный современник, философ Фёдор Степун, констатировал, что тепло, простор, уют исчезли из квартир. По мнению Степуна, в новых, часто убогих убежищах глубже ощущалось счастье иметь свой собственный угол, крышу над головою: „Маленькие железные печурки по прозванию 'буржуйки', вокруг которых постоянно торчали холод и голод, благодарно и первобытно ощущались почти что священными очагами жизни.“[308]