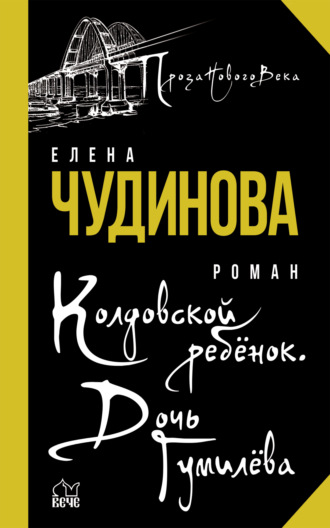
Полная версия
Колдовской ребенок. Дочь Гумилева
– Мама! – Лена чуть оживилась. – Ты позволишь?
– Право же, могу вас только поблагодарить, – опережая возможное недовольство матери, поспешила Анна. – Классов у нее сейчас нет, до осени, можно и погулять иной раз подольше. Часов до пяти.
– К пяти доставлю принцессу обратно в замок. Честь имею. Идемте, Елена Николаевна?
– Идемте!
Лена, уставшая от печали, бойко прибавила шагу. Молодой человек тоже зашагал быстро – с ребенком наперегонки.
– Юрий Сергеевич, а куда мы пойдем?
– Гмм… – Задонский улыбнулся. – Думаю, что мы пойдем через Фонтанку… Выйдем на Невский… Затем пойдем на Мойку…
– Так нечестно! Вы по правде ответьте – куда?
– В самое интересное место на свете.
Глава VII. Женщины и поэты
– Заварить тебе травяного сбора, мама? Ты устала. – Голос Анны Николаевны сам был усталым. Неожиданно уставшим показалось и лицо, словно молодая женщина наконец выпустила из клетки надежно запертую в присутствии детей тоску.
– Я выпила бы чашку декохта, но немного позже. – Лариса Михайловна опустилась в кресло с высокой спинкой. – Я хотела поговорить с тобой, Анет.
– Я в твоем распоряжении. – Анна села на стул визави, напротив окна. – Вероятно, о Лене?
– В том числе, но не только о ней. – Лариса Михайловна привычным жестом, не глядя, взяла со столика китайскую шелковую коробочку, с вышитыми по ней пагодами. У Ларисы Михайловны была не совсем обычная привычка – вертеть в руках два нефритовых шара, чуть меньше яйца размером. Внутри этой коробочки, в двух гнездышках дрокового цвета, эти зеленоватые шары и хранились обыкновенно. Лене не разрешалось с ними играть.
– Лучше уж я пойду с нею вдвоем куда не следует, чем она побежит одна, – Анна взглянула на мать упрямо – не подозревая, сколь похожа сделалась в этот миг на свое дитя.
– Ты больше понимала слово нельзя в ее возрасте, – Лариса Михайловна вздохнула. Волосы ее, наполовину поседевшие, еще отливали золотом, тем же, что у Анны и Лены. Годы заострили черты ее лица, но тип, что поэтическая среда некогда определила как «боттичеллиевский», но являвший скорее что-то среднее между Симонеттой Веспуччи и менинами сумрачного испанца, еще в этом лице сохранялся – тоже общий для всех трех. На Симонетту больше походила Анна, на инфанту Маргариту – Лена. И обе – на старшую женщину. – Хотя, когда ты была ребенком, это было в сотой доле не столь существенно. Да, Анет, меня тревожит воспитание твоего деда, с твоей покорности. Но мать – ты. Ты должна понимать, что дитяти на пользу.
– Папе лучше знать. Я думаю, Коля бы его воспитание одобрял.
– Nicolas не сумел поладить с новыми властями. – Шарики в ладонях Ларисы Михайловны звякнули друг о друга. – Он был из несгибаемых. Само собой, он бы одобрял все, что исходит от Николай Александровича. Но мой муж витает в сфере идей. Не прерывай меня, я прекрасно знаю, что единственно он устраивает все наши житейские нужды. Но его ведет абстракция. Воспитать девушку из семьи, помнящей Крестовые походы и державшей брачные венцы над Государыней и Потемкиным, дочь поэта, гордую, знающую себе цену. Но это скорее опасность там, где нет круга, способного это естественным образом оценить и принять. Пусть он учит ее сопротивляться ударам, но половину из них он готовит внучке сам. За меньшую внучку я много меньше тревожусь, это воспитание вы легко уступили ее агнатам. Те дед и бабка – люди более практической складки. Но какую судьбу вы уготавливаете Елене?
– Но что мы делаем неверно, по твоему мнению, мама?
– Ты удивишься, что я знаю недавний случай. Даже Николай Александрович не знает. На святой эта их… руководительница класса устроила, чтоб ученики писали на доске список: кто был на праздник в церкви. Дети выходили и писали имена одноклассников – доносили. А Лену никто не заметил шедшей с нами на службу. Ее имени на доске не было. Догадываешься, что было дальше?
– Я не хотела бы гадать.
– Эта… особа спросила еще раз: кто хочет дополнить список? И тут руку подняла Елена. Особа была в оторопи, ей подумалось, что девочка тоже хочет на кого-то донести, но верилось с трудом. Тем не менее, она позволила Елене выйти к доске. Лена подошла, взяла мел и написала: Гумилева Елена.
– Красивый жест. – Анна усмехнулась невольно. – Коле бы понравилось.
– Там было кому оказаться в восторге, не сомневаюсь. Вне сомнения, и Журов, и Иванов-второй, и Болотов, вся эта компания, ее потом осыпала похвалами.
– Мама, но откуда ты узнала? – изумилась Анна. – В школу меня не вызывали…
– Формально – не из-за чего было вызывать. Верующих детей ставили к позорному столбу – встала и она, добровольно. Не придерешься. Но после ее поступка уже не получилось над детьми покуражиться. Особа просто затаила, не сомневайся. А мне рассказала другая бабушка, очень приятная вдова моих лет, некая Надежда Павловна Коханова.
– В Ленином классе нет Кохановых.
– Ну, стало быть, ребенок носит отцовскую фамилию, не суть важно. – Нефритовый шарик лег на стол, другой его подтолкнул. Эту привычку Анна знала за матерью, сколько себя помнила. – Но знаешь, Анет, я бы предпочла, чтобы Лена вправду росла такой, как о ней сплетничают… Ты поняла, о чем я. Непримечательная, неинтересная, ничем не блещет. В такие времена в самом деле не стоит бросаться в глаза. Хотят они или нет, но нам оказывают услугу.
– Мне только не хотелось бы за такие услуги благодарить, – Анна вспыхнула. – Мама, ну пусть я. Меня есть за что ненавидеть. Я моложе, Николай Степанович любил меня больше… Но как можно злословить о ребенке? Это же гнусно!
– Богема – среда очень нездоровая, Аня. – Лариса Михайловна поймала один из своих шаров, чуть не скатившийся на пол. – Ты все же в полной мере этого не представляешь. Nicolas не был типичен для литературного мирка. Он и был человек иной складки, и путешественник, и солдат. Твой брак был благословением свыше, а не чудовищной ошибкой, как мое первое замужество.
– Ты никогда не говорила об этом так откровенно. – Анна взглянула на мать с тревогой.
– Я не вечна, – пожала плечами старая дама. – Один раз ты должна обо всем услышать от меня. Ведь будут другие, со своими ценными повествованиями, это ты не хуже знаешь, сама испытала. А сегодня все удачно сложилось. Девочка на долгой прогулке, Николай Александрович не скоро воротится из бюро переводов. Владей пролетариат иностранными языками, мы умерли б с голоду. Наше будущее сулит множество обличий смерти, но голодную едва ли. Так что нам никто не помешает. Но сначала, пожалуй, все-таки завари мне сбор.
Молодая женщина, соседка Олимпиада, или же Липа (Лена в последний год взяла привычку за глаза именовать ее Деревяшкой), давила в ступке около своего примуса чеснок. Отвратительный запах, казалось, наполнял всю кухню.
Анну неожиданно охватило странное чувство: что делает здесь эта чужая? Зачем чужая и незнакомая ходит по их дому в растоптанных домашних туфлях на босых ногах? Зачем она тут вообще? Зачем эти четыре кухонных стола в ряд вдоль изразцовой бело-голубой, с голландскими сюжетами, стены? Когда-то, в детстве, все здесь было таким родным, так сверкало медью, так белело крахмалом… Здесь пахло пряностями, и проворная кухарка Поля весело раскладывала на противне фигурки имбирных пряников. К восторгу Ани и Саши мама меж тем сама расписывала уже испеченные пряники разноцветной глазурью, сидя тут же, у единственного кухонного стола – огромного и старого. В углу за ним стояла лошадка на колесах, перекочевавшая украшать кухню потому, что жаль было выбросить, а наездники ее уж выросли.
– Гречи опять нету в продмаге.
Немодулированный голос Липы вернул Анну в сегодняшний день. Что и можно извинить этим совслужащим, но только не эту бедность интонаций.
– Даже на Литейном. Уж неделю нигде.
– Да, я тоже не видела ее в продаже, – вежливо ответила Анна.
В действительности семья совслужащих Фаниных была не самым худшим из всего, что могло вторгнуться извне. Даже невзирая на редкостно крикливого младенца, чей плач и сейчас доносился из распахнутой двери комнаты, бывшей столовой. Кошмарная бабища Анюта, элемент чисто пролетарский, занимала одну из бывших спален. Липа с мужем жили в двух комнатах, вторая, слишком маленькая, чтобы в нее вселили по отдельному ордеру, когда-то была Аниной детской. Бывшую комнату брата занимал учащийся совпартшколы, «освобожденный» из производства рабочий. По счастью, он больше отсутствовал. Могло быть и хуже. Но…
Кипяток забурлил. Анна торопливо сняла чайник с примуса.
– Как ты думаешь, Аня, отчего тебя воспитывали так строго? – начала Лариса Михайловна, когда нефритовые шары улеглись обратно в свои шелковые гнезда, а на столе явились чашки – декокт для старшей и чай для младшей дамы. – Знаю, ты всегда больше любила отца. Много больше, он был к тебе добрее. Он был… не столь ревностен в своей строгости. А мне было безразлично, сильно ли ты привязана ко мне. Я слишком страшилась повторения в тебе своих ошибок. Поэтому поначалу меня безмерно напугали твои отношения с Николай Степановичем… Но только покуда я его не увидала. Я тогда сразу успокоилась. Он оказался другое.
– Я понимала, что брак твой с Бальмонтом был несчастлив – иначе вы не расстались бы. В вашем поколении развод был еще редкостью. – Анна Николаевна, смутившись, отвела глаза от лица матери. На дне чашки оказалась очень длинная чаинка – сулящая обнову. И, между прочим, скорее всего привирающая. – Но не могла же я о чем-либо спрашивать?
– Нет, не могла. Потому и дождалась ответа. – Лариса Михайловна отставила чашку. – Неприятный вкус у пустырника. Но что поделать. Я росла совсем иначе, чем ты. Своевольная, балованная. Наряды – самые дорогие, кони – самые злые, поклонники – самые завидные. Первая влюбленность всегда отдает безумием, когда же девушка привыкла во всем настоять на своих желаниях, это сущий ужас. Как же все это меня увлекло – родители против, бежать и венчаться тайно, желательно бы еще с погоней. Погони не было, но я все равно чувствовала себя героиней романа. Но влюбленность в поэта уж слишком быстро оборотилась прозой. Некрасивой и очень страшной. Кто рассуждает в восемнадцать лет? Даже если б я знала о уже имевшей быть попытке самоубийства… Она случилась, когда первый сборник его стихотворений обошла вниманием публика. Говорят, самоубийцы не меняют манеры… Во всяком случае, с Бальмонтом это было верно.
Лариса Михайловна ненадолго замолчала, поднеся ко лбу руку – белую и холеную, – словно бы назло возне с углем и примусом, с серым мылом для стирки… Ранняя молодость острее впитывает память душевной боли. В ее памяти, как наяву, выплыла балансирующая на подоконнике фигура Константина, угловатая и странно женственная, раскинутые руки, разорванный криком рот, солнечные блики, скользящие в стеклах, шум уже собирающихся снизу праздных любопытных… Нога в черной лаковой штиблете, задевшая цветочный горшок и, одновременно с грохотом соскользнувшая, крик, перешедший в рев ужаса… Страшный удар тела о землю.
– Он… он ведь из окна выпрыгивал? – тихо спросила Анна.
– С третьего этажа, – печально усмехнулась Лариса Михайловна. – Так и остался хромать. Впрочем, ему это нравилось – мефистофельское. По правде сказать, Анет, я и жила в аду. Жизнь с натурой невротической, бесстыдной в выставлении напоказ самых сокровенных сторон… Этот нарциссизм, это выворачивание решительно всего в свою пользу… Я не наговариваю, нет, о нет. Веришь ли, даже собственное свое пьянство он пытался поставить в вину мне, полуребенку, только что выпорхнувшему из родительского гнезда… Якобы – я его спаивала. Так он объяснял свои эскапады приятелям, не слишком заботясь о правдоподобии.
– Мама, так ты и есть тот самый вампир, женщина-чудовище? – Анна не сумела не улыбнуться.
– И слышу я сие от глупой куколки, поющей ныне по кабакам и выбравшей кривую дорожку?
Обе рассмеялись, тепло глядя одна на другую.
– Кстати, бездарное же стихотворение, – заметила Анна. – Что-то наподобие пережеванного Некрасова.
– А ты знаешь… Тогда так не только не казалось, но и словно бы так не было, – задумалась Лариса Михайловна. – Так случается. Иные композиторы или литераторы устаревают, и уже потомки, признавая былые лавры, все же недоумевают потихоньку, что же приводило современников в такой экстаз? С твоим мужем будет иначе, тут ты моей судьбы не повторяешь. Кроме неврастении вылезли и иные обстоятельства, мне неизвестные до брака. Как оказалось, Константин словно боялся пропустить мимо внимания хоть один революционный кружок. Состоял во всем, в чем только можно. Какие-то расхристанные непромытые гости, в доме то мешочки типографских литер, то листовки, то оружие… Оружия я особенно боялась, с его-то непредсказуемостью… Я все время жила в напряжении.
– И ты рассталась с ним?
– Не сразу. Выпутаться из подобной паутины непросто. Такие люди… они наделены своеобразным липким обаянием. Но все же это удалось. Двадцати с небольшим лет я думала, что моя жизнь кончилась. Я ощущала себя бесконечно выжатой и усталой, глубокой старухой. Я не испытывала горя, слишком велико было облегчение, что это терзание прекратилось. Но мне ничего не хотелось, вовсе ничего. Встреча с твоим отцом – это было откровение. Полная противоположность Константину. Противоположность во всем. Меня поразило его исключительное душевное здоровье. Ах, Аня… Поэтическая среда, она ведь очень нездорова. Да, я вновь об этом. Когда-то было иначе – при Пушкине и графе Алексей Константиновиче… Но уже в моем поколении нездоровье возделывалось и культивировалось. Тебе посчастливилось один раз… Но остерегайся поэтов, дорогая.
– Вот ты к чему, мама. – Анна вздохнула, поднялась и подошла к левому окну эркера.
– Ты слишком часто встречаешься с этим человеком в твоих поездках в Москву.
– Но это мне нужно для театра… Мама, это вовсе не то, что ты думаешь.
Павел Васильев, московский поэт, даже не тем нехорош, что происхождением, как особым тоном вот-вот скажет сейчас мама, «du простой». Кто на это глядел перед переворотами? Сейчас мы придаем происхождению много больше значения. Но Васильев, о котором не сказать машинально «господин Васильев», не просто сын прачки или кухарки, Анна успела забыть, он из идейных… врагов. Нет. Заблуждающихся? Трудно определить.
Непреложное табу – не знаться с лившими кровь врагами, к нему, конечно, не применяемо. Слишком молод. Обаятелен, хорош собой, хотя неотесан: не знает, что надо встать, когда входит женщина, при поцелуе руки – в самом деле касается ее губами. Но да и откуда бы? Но не хам, нет. А главное, самое главное – Васильев талантлив. Без скидок на происхождение или образование. Талант тоже неотесан. Но силен. Анна знала: так бы и Коля оценил.
Не добраться к тебе! На чужом берегуЯ останусь один, чтобы песня окрепла,Всё равно в этом гиблом, пропащем снегуЯ тебя дорисую хоть дымом, хоть пеплом.Тема знакомства с Васильевым не касалась личных обстоятельств Анны Николаевны, однако в глазах и в неумелом, чуть детском почтении этого огромного сибиряка Анна видела – он ни на мгновение не забывал, кто она такая. Жена, вдова Николая Гумилева.
Этот неуклюжий восторг не мог не трогать искренностью. Васильев не был скован, смеялся, балагурил. «Мы ведь с вами тески, Анна Николаевна. Ну, почти. Я тоже Николаевич. По причине одинакового отчества – меня вовсе без отчества можно». Но благоговел, что в каждом жесте, в каждом взгляде проглядывало.
Причиною же знакомства было неожиданное предложение: не возникнет ли желания поставить кукольный спектакль по стихотворной сказке? Сказка была еще не готова, но полностью захватила, опутала молодого поэта. Называлась она «Град-вертоград». Дело происходило в волшебной стране, где человек не разлучился с природой, но ладил с нею. Никто не рубил деревьев, деревья сами росли, когда требовалось, в виде домов-шатров, сами протягивали ветви, делясь плодами. Стояло вечное лето, коровы делились с людьми молоком, которого было слишком для них много – так изобильно тучны были травы. «Эх, опередил Твардовский, взял уже названье Муравия! И ведь вовсе не о том написал, не о том… Но я ничего, я, Анна Николаевна, их древлянами назову, из истории. Тоже хорошо звучит слово… Ничем не плоха зеленая страна, хоть бы для сказки… А в нее попадает из нашего мира человек. Обычный, не злодей, для нас не злодей. А для тамошних он – чудовище. Подумайте, он же не только топором орудует, он еще и дороги топчет, тропки! А там нету ни троп, ни дорожек. Там лес и травы сами расступаются, чтобы пропустить человека… Там все живое. И вот…»
Анна взяла время на раздумье. С одной стороны – хотелось взять свою, русскую тему для спектакля. Но, если поглядеть вокруг, Гофман, пожалуй что, сейчас и надежнее, даром что романтик. Подальше он, Гофман. Опять газеты пошли воевать «великодержавный русский шовинизм». Но уж очень заражала веселая увлеченность молодого поэта.
– Он же не свой. Он же из этих, из новых, du простой. Ты еще слишком молода, Аня. Твой роман с Сержем показал – вдоветь всю жизнь ты не можешь, это и несправедливо. Но если бы Серж… Прости. Не хотела тронуть этой боли, но я тогда была бы спокойнее.
– На тебя не угодишь, мама. То – быть незаметнее, то – не знаться с простыми.
– Если бы я сама знала, как лучше. – Пожилая дама, поднявшись, принялась убирать со стола. – Да, я страшусь и того, что Лена растет уж слишком аристократкой, и того, что ты подпускаешь к себе на небезопасное расстояние пролетария. Это не вполне логично, но что поделать.
– Мама, Павел Васильев все же не пролетарий. Он поэт. Это тоже «покой», но совсем иное слово. Он в самом деле талантлив. И по-своему достаточно здоров. Но скажу тебе откровенно, как женщина женщине: я не влюблена. Да, быть может, это скверно и суетно – согреваться восхищением мужчины. Но мне… мне просто от этого немножко теплее.
– Не перегрейся, душа моя.
– Не тревожься, мама. Я, сдается, никогда не буду больше в жару. Я могу увлекаться лишь слегка, это не лишает разума, о нет. Ну кого, в самом деле, можно без памяти полюбить… после Коли?
– Женская душа не любить не может. Будь осторожна, Анет. Я не доверяю чужим.
– Я буду осторожна. – Анна, подойдя к матери, забрала из ее рук чайничек и бережно, словно в детстве, поднесла ее руку к губам. – Обещаю.
Глава VIII. Таинственный ВИР
Идти по улицам вместе с Задонским было лучше, чем с мамой, о бабушке уже не говоря: шаги у него были быстрые. Быстрые и широкие – Лена бы за такими не поспевала, когда бы тоже шла. Но ей много больше нравилось не ходить, а бегать.
Приятным было и то, что Задонский называл ее Еленой Николаевной и обращался «на вы». Словно она большая. Но ведь и не маленькая уже, это мама все не хочет понять.
Исполинский трехэтажный дворец в псевдобарочном стиле занимал одновременно и часть Исаакиевской площади и Большую Морскую. («По-нынешнему, как дома не говорили, площадью Воровского – дедушка произносил – Воровского – и улицей Герцена.) Он был огромный, немыслимо огромный, как крепость.
– Здесь, Елена Николаевна, я служу.
– Это и есть ваш институт растений?
– Растениеводства. Да, так точно, это дом, где живут растения со всего света. Их тут – сотни тысяч. Но, как видите, нашим растениям не тесно.
– Их отовсюду собрали и привезли? – Лена проскользнула в приоткрытые ей Задонским двери. – А кто?
– Больше всего – сам Николай Иванович. Он полсвета обошел, то верхом, то пешком. Добрый день, Андрей Иванович! Вы из гаражей? Каковы наши надежды?
– Да понемножку, Юрий Сергеевич, – отозвался остановившийся у гардероба, по летнему времени закрытого, рослый мужчина в рабочей блузе. – К выезду под Астрахань автомобили наши будут на хорошем ходу, надеюсь. Это сестренка ваша?
– Эта юная особа – моя гостья сегодня.
– А похожи как, оба светленькие. Всего наилучшего. Пойду от машинного масла отмываться.
Все вокруг было огромным, светлым и каким-то веселым. Может быть потому, что расположение окон, продуманное для присутственного места задолго до электрической эпохи, улавливало дневной свет как нельзя удачно. А может быть просто потому, что среди ученых, торопившихся кто куда по коридорам и лестницам, замечалось немало молодежи. Полные энергии голоса, смех, стук быстрых шагов.
– Да, Елена Николаевна. Где только не побывал Николай Иванович! – Воротился к разговору Задонский. Они поднимались уже на второй этаж. – Один раз их аэроплан приземлился вынужденно около логова льва. Авиатор, говорят, перетрусил больше, чем от падения. Они ведь, можно сказать, не приземлились, почти упали. А Николай Иванович сразу нашелся: всю ночь поддерживал маленький костер. Лев боялся выйти, жался к задней стене, у его же собственного логова – этот страшный огонь! Ну а к утру и помощь подоспела. А еще Николай Иванович прошел Афганские горы – Кафиристан. Там до него европейцев в иных местах вовсе не видали. Можете себе вообразить, как местные дикари удивлялись? Они, кстати, довольно свирепые, дикари в тех краях.
– Людоеды? – Глаза Лены расширились.
– Нет. Но разбойники. Только тем и заняты, что грабят да убивают друг дружку. А Николай Иваныча тронуть не посмели. Ни разу и нигде.
– Он на моего папу похож? Ваш Николай Иванович?
– Как странно… – Задонский скользнул взглядом по серьезному детскому лицу. – Но ведь вы правы, Елена Николаевна. В чем-то да. «Мы рубили лес, мы копали рвы, вечерами к нам подходили львы. Но трусливых душ не было меж нас, Мы стреляли в них, целясь между глаз».
– «И, мыча, от меня убегали быки, никогда не видавшие белых», – отозвалась девочка. – Мне здесь нравится, у вас.
– Я душевно рад. А вот мы и пришли.
Огромная комната показалась Лене похожей на класс. Здесь тоже висели на стенах карты, за стеклами, расставленные на полках в огромных шкафах, виднелись мудреные сосуды и различные приборы, стояли в ряд столы, хоть и не так стройно, как парты.
– Здесь живет пшеница. – Задонский горделиво улыбнулся, словно речь шла о живой человеческой особе высочайшего ранга, к чьему двору он имел честь относиться. – В соседних залах тоже она. Пшеница у нас – самая главная.
– О, да никак мы видим новую сотрудницу? – воскликнул, подняв голову от микроскопа, молодой человек в небрежно наброшенном на плечи белом халате. Фраза отозвалась по комнате приветливым смехом.
Больше всего и тут было молодых. Они и обступили Задонского и Лену: первыми, конечно, спорхнули с рабочих мест представительницы прекрасного пола.
– Вот так коллега!
– Задонский, это сестра? Нет? А вы похожи…
– Что за гостья у нас тут такая, что все побросали работу? – поинтересовался, входя, строгого вида мужчина лет сорока в тройке старомодного фасона. Тщательно отутюженные рукава и складки подозрительно поблескивали: похоже, что костюм превосходил летами советскую власть. Впрочем, суровый его тон никого в заблуждение не ввел.
– Гостья моя, и полагаю, ей превесьма познавательно у нас побывать, – весело отозвался Задонский. – Вдруг мы принимаем будущего биолога? Елена Николаевна, представляю вас нашему Георгию Карловичу Крейеру.
– А я читала, – удивилась Лена. – Здравствуйте, Георгий Карлович. Ведь это вы пишете в журнале «Костер» про лекарственные травы? Очень интересно.
– И какие же травы вам запомнились, барышня? – Крейер казался несомненно польщенным.
– Солодка! Это от кашля. Беладонна… – Лена сморщила гримаску, вспоминая. Привычка, от которой ее тщетно пыталась отучить бабушка. – И… валериана! Беладонна и валериана это от нервов. Но беладонна не только успокаивает…
– Как знать, может статься, вы и вправду станете растениеведом, как мы, – Крейер улыбнулся.
– Нет, я не стану ученым, хотя мне очень нравится читать и про растения, и география нравится, – серьезно ответила Лена. – Я хочу быть поэтом. Как мой папа.
– Ваш папа пишет стихи? – снисходительно улыбнулся Крейер.
– Мой папа – Николай Степанович Гумилев. Он не пишет уже, он погиб.
В лаборатории воцарилось вдруг молчание. Глядя на фигурку в темно-синем костюмчике, жестко накрахмаленной беленькой блузке и тяжелых ботинках, присутствующие не могли не отдаться странному впечатлению, овеявшему всех. Только лишь эта невыносимо маленькая жизнь отделяла их от тех дней, когда поэт, которого даже самые молодые из ученых читали в юности совершенно свободно, был жив и полон сил. Вот эта, такая еще маленькая, девочка – и есть живой мостик с теми годами? Как же мало времени прошло с тех пор! И как немыслимо изменилась жизнь. Неизмеримо далекой кажется Гражданская – а ведь девочка увидела свет, когда она полыхала вовсю. Кануло в Лету бесшабашное лихолетье хаотического террора, когда за лекции выплачивали жалованье пшеном или воблой, когда на поэтических вечерах сидели зимой в шубах – но словесность, живопись, гуманитарные науки еще не ощутили мертвых шор. Было ради чего брести на голодный желудок через полгорода, пешком. Теперь в залах топят, но посещать возможно лишь концерты классической музыки. Жизнь упорядочилась, но окостенела. Одно лишь не поменялось с тех лет, когда у этой девочки был жив отец: никто не знает, не попадет ли в подвал завтра. Ходят трамваи, бегают автомобили – но Дамоклов меч завис над каждой судьбой, как чужое и непривычное имя – над городом.











