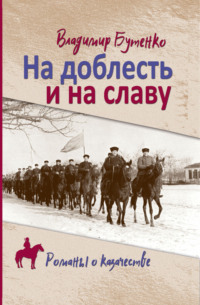Полная версия
Казачий алтарь
Из Европы вернулся младший брат сотником, сполна отломав службицу. Привез на навьюченных лошадях изрядно добришка. Не пуст был и гаманок. Этому обрадовался Дончур несказанно, но чувствовал за собой вину. Не сохранил до возвращения служивого ни мать его, ни бабку, ни брательника, утонувшего в половодье.
За храбрость и усердие пожаловал Платов сотнику земельный нарез вдоль берега Несветая. Отсюда и повелась станица Ключевская, – много было светлых родников вокруг…
В огромном каменном курене и на обширном подворье хлопот домовому прибавилось. Но он не только не противился, но воспрянул духом, приписывая хозяйский достаток своему неустанному вниманию. Петр Данилович за родного почитал племянника Маркяшку, воспитал из него наездника-ухаря. И женил не абы на ком – на дочке станичного атамана. Родство похвальное, да счастье скользкое. Молодуха оказалась бессемянкой. Уже в годы вошел Маркян, уже растолстела его женушка, а детей по-прежнему не было.
Затомошился Дончур! Шагановскому роду замаячил неизбежный конец. Духи предков не давали домовому покоя. И он, разгневавшись на пустоцветную жену Маркяна, решил ее сжить.
Однако первым лег на ключевском кладбище сам господин сотник. Негаданно на дрофиной охоте случился апоплексический удар. Маркян получил богатое наследство.
Вскоре по округу разнесся дивный слух, что якобы император даровал крестьянам свободу. Крепостных у Маркяна было всего-навсего двадцать семь душ, переселенцев с южной Украины. Вели они себя покорно, «спивалы гарни писни», пока не взбунтовались иногородцы в соседней экономии генерала Межерицкого. Дело было в страдную пору. Казаки работали в степи, на своих паях. Этим-то и воспользовались дуроломы. Кинулись грабить станицу. Не минули и шагановской усадьбы. Заметался Дончур в тягостном бессилии. Крестьяне, опустошив двухэтажный дом, со зла пустили погулять «красного кочета». Домовой гасил огонь, пока не вскинулся он до крыши. Взвился бедолага Дончур на трубу, оттуда сиганул на конюшню, но не рассчитал и сорвался на остов телеги, зашиб колено и повредил глаз…
В одночасье стал Маркян нищим.
Только глубокой осенью перебрался он с женой в саманный куренек, построенный на деньги из казачьей казны. К тестю, к тому времени уже оказавшемуся без атаманской насеки, идти в приймы не позволила наследственная гордость. От пережитого ли несчастья, от немощи ли, насланной домовым, женка Маркяна слегла и в зиму отдала богу душу. Вдовец недолго горевал. Разменявший полсотню лет, Маркян удосужился жениться на девке Матрене. Поначалу была она тише воды, ниже травы, уважала супруга. К восторгу Дончура родила первенца, поименованного Тихоном, согласно святцам. Да бес, видно, подкараулил молодку! Стала она дерзить, убегать на игрища, пьянствовать. Супруг пробовал остепенить ее кулаками, часто водил в церковь на исповедь и покаяние. Да все без проку. Ничем не выручил и домовладыка, чинивший вертихвостке всевозможные препятствия. Сбежала Матрена! Сбежала с каким-то мимохожим черноусым солдатиком…
Маркян растил своего Тишку один. Научил трудолюбию и разным хозяйским премудростям. Оженил. И почил навеки. С той поры Тихон Маркяныч оказался под опекой Дончура, как старший и главный в роду.
Все пережитое было у домового на памяти. Из года в год надеялся он, что жизнь казачья свернет на покойную, счастливую стезю. Но недреманное лихо метило Россию и в первое десятилетие текущего века, и во второе. Злоба и безверие обуяли сердца. Домовые утрачивали былую власть и силу. Даже Спаситель рода человеческого, Христос, подвергся осмеянию; кощунственно разрушались храмы, с икон выжигался Лик. Православные отрекались от Бога, греша друг против друга…
Теперь же случилось бедствие неслыханное – чужестранцы заполонили степь!
Крепко закручинился домовой, замечая над казачьими могилами зыбкое дрожание огоньков по ночам. Встревожились, знать, не напрасно духи предков. Без сомнения, предвещали они лишения и бездонную скорбь.
Раздумья утвердили Дончура в намерении обратиться за помощью и советом к светлоликому Сварогу. Верховный бог огня всезнающ и могуч. Несмотря на строжайший запрет покидать Землю, Дончур решил это сделать. Иного выхода не нашлось. Необходимо было зарядиться вселенской энергией, обрести утраченную духовную мощь. Война грозила пресечь шагановский род, а значит, и его существование…
За полночь, прислушиваясь к безмолвию в курене и на подворье, – вдруг всполошатся петухи! – домовладыка спустился с чердака на землю. Проведал коров, малость поиграл с Жулькой. Затем положил кисет на верстак, полуприкрыв его дощечкой. В выси маняще сверкали звезды!..
10Уже из Тихого Дона черпали водицу немецкие солдаты, уже фотографировались на берегах Кубани, уже играл по вечерам в Майкопе, где прежде казаки несли службу в кавалерийских отрядах, духовой оркестр оккупантов.
Смертельные смерчи, разгулявшиеся на южной казачьей равнине, неслись к предгорьям Кавказа. Вследствие поспешного отхода частей 18-й армии, правое крыло Приморской группы Красной Армии вновь оголилось, и всю тяжесть оборонительных боев опять взвалили на свои плечи донцы и кубанцы. Позиции корпуса подковой выгнулись по берегам реки Белой, северо-западнее Туапсе. Ему противостоял 44-й немецкий корпус. Несколько раз станица Белореченская переходила из рук в руки, пока не был нанесен неприятелем мощный охватывающий удар. 12-я казачья дивизия с превеликим трудом вырвалась из кольца на рубеж Кушино – Гунайка, в то время как главные силы казаков отступали на Хадыженскую. Отсутствие надежной связи между частями корпуса поневоле заставляло командиров принимать самостоятельные решения, руководствуясь оперативной обстановкой. Штаб 257-го полка наметил ночную вылазку в немецкий тыл, чтобы отвлечь, запутать врага, давая тем временем возможность эскадронам подняться на очередной горный перевал. Рейдовая группа в составе двух взводов начала подготовку с вечера.
После той памятной рукопашной на Якова Шаганова не единожды замахивалась бабка-смерть: под Васюринской пуля сбила пилотку; около побережья Лабы эскадрон попал под атаку «Юнкерсов» – Якова привалило в окопе; в тяжелейшем сражении у Черниговской осколок мины искорежил ствол его карабина. Бой – переход, бой – переход… Спал нередко, как и другие казаки, в седле. Запеклась душа, стала куском каленого железа. Горестно взирал он на испепеленные нивы, на колонны беженцев, среди которых было множество чумазых ребятишек, ровесников его Федьки, прятавших головы от солнца под нахлобученными листами лопухов. Но как укрываться в голой степи от бомбардировщиков?!
Вполнеба полыхали нефтебазы. В Медведовской Яков оказался очевидцем поджога элеватора, заполненного зерном. И, остро осознав дикую стихию уничтожения, хаос войны, бессилие перед ее истребительной мощью, он принял, как главную заповедь своего существования, призыв на одном из плакатов: «Увидел немца – убей его!» Этот лозунг оправдывал все поступки и прегрешения, ненависть к врагу, тяжелеющую при мыслях о доме, о хуторе, где уже хозяйничали захватчики…
В рейдовую группу отрядили тех, кто был посильней. Аверьян Чигрин, Антип Гладилин и Яков таились вместе с полусотней в грабовом лесу, у подошвы горы. Тут же, на вырубке, паслись лошади, выискивая среди пней и древесной поросли травицу. Зная, что предстоит тяжелая ночь, казаки спали, сделав ложе из листьев папоротника, другие чистили карабины, кое-кто писал коротенькие весточки. Аверьян Чигрин, доштопав рукав гимнастерки, деловито убрал катушку с иголкой в свой вещмешок и, уловив взгляд Якова, поднялся и негромко потребовал:
– А ну, сержант, покажь свой клинок. Проверю, какой ты казак.
Яков не заметил и тени насмешки в голосе односума. По тому, как любовно принял и оглядел бывалый рубака шашку, с безупречно ровной проточиной по полотну закаленной стали, чуть тронутую накрапами ржави, было понятно, что он знаток в кавалерийском деле.
– Да-а… Игрушечка… Старинная?
– Дедова.
– Вспомнил чтой-то, как женка твоя в Должанскую приезжала. Красивая женщина! И эта шашечка добрячая…
Аверьян, точно священнодействуя, несколько раз попробовал наточку большим пальцем. Потом, положив шашку острием на тыльную сторону левой ладони, резко отнял ее и ухмыльнулся:
– Круто заточена. Таким тупяком не головы косить, а подушки выбивать. Видишь, полоски на коже нет? А должна оставаться! Зараз переточим. А рукоятка по-умному сделана… Были ж мастера! Пальцы в бороздки ложатся! Мой тебе совет: ладонь в темляк не вдевай. Ежель сбоку крепко рубанут – так и вывихнешь лапу…
На переносном точильном круге, который вращал Яков, Чигрин старательно выправил лезвие. В подтверждение сказанному показал красную черточку на кулаке.
Случайные слова Аверьяна растревожили память Якова. Впрочем, не только он думал, наверно, в эти часы о близких людях. Дело предстояло рискованное. На пересеченной местности, в крайнем случае, могли спасти резвые ноги лошади, а в горах? Узкие тропы среди леса, каменистые ущелья – не разминуться… Лидия приехала в Должанскую, где стоял его полк, внезапно. С колхозным обозом добралась она до станции Кавказской. А оттуда – на попутке, на каких-то подводах, пешком – аж до Азовского моря! Левченко, тронутый таким отважным поступком казачьей жены, дал Якову увольнение на сутки. Вдвоем ушли за станицу, на песчаные приморские крутояры. С лица Лидии не сходило восторженное удивление, будто не могла до конца поверить в эту долгожданную встречу. И говорила, говорила… Цвел шиповник. Июньское разнотравье дурманило, скрадывало молодые, истомившиеся в годовой разлуке тела. Оба были неистовы. Не могли избыть силу и жадную наполненность друг другом… С небывалой четкостью запечатлелся тот миг, когда он после дремы открыл глаза и рядом увидел лицо забывшейся Лидии. Она счастливо улыбалась. Длинные черные ресницы, дужки темных бровей, приоткрытые губы, вспухшие от поцелуев, завитки волос на шее – все было таким родным, любимым, несказанно дорогим, что он, ощутив вдруг захлест нежности, осторожным поцелуем разбудил ее… А какой был их семейный ужин! На холстинке красовались и домашний каравай, и розовеющее вдоль шкуринки сало, и топленое масло, и сыр. Дед Тихон передал не только шашку, хранившуюся где-то четверть века, но и бутылку медовухи. Соприкосновение с домом, с милой и такой недосягаемой прежней жизнью было столь острым, что Яков испытал тогда блаженные, редкие минуты душевного покоя. Лида рассказывала о Федюньке, который так подрос, что пришлось штаны его дотачивать сукном. Хвалилась, что дедушка Степан уже учит его читать. Подтвердила то, что сообщала в письмах: все родные здоровы, работают, шлют ему огромный привет. Потом Яков расспрашивал о хуторских делах и узнал, что ключевцы зимой собирали теплую одежду для фронта и все, как один, подписались на военный заем… Но чем дольше говорила Лидия, тем ясней становилось Якову, как трудно хуторянкам да старикам вести колхозные дела, не жалеющим себя, работающим на износ ради общей победы. И он не стал открывать жене правду, что в их полку оружия хватает не на всех. Наоборот, уверял, что вот-вот с сибирских заводов поступят танки, самолеты и «Катюши», и немцев погонят вспять… Искупавшись в море, вернулись в станицу и лишь в третьем дворе упросили старую казачку пустить на ночлег. Но и в душной халупе они, донимаемые комарами, до самого рассвета не сомкнули глаз. Оба, умалчивая, оберегая друг друга, затаенно понимали, что эта встреча может оказаться последней, последней… Поспешность, с которой Яков посадил жену на машину, везущую подростков в школу младших командиров в Старощербиновскую, что было ей по пути, не позволила даже расстаться наедине. С ревнивым чувством наблюдал он, как забиралась Лидия в кузов полуторки, встреченная шуточками чубатых молодцов. Когда же машина разогналась и за пологом пыли стала меркнуть сиреневая косынка жены, неотрывно глядевшей назад, такая одинокость стиснула его сердце, что, грешным делом, подумал: лучше бы Лида вовсе не наведывалась…
Потемнело, как обычно в горах, довольно быстро. Заместитель комэска Расколин, выстроив полусотню, кратко повторил задачу рейда и повел казаков к дальнему ущелью.
Черные, высоченные откосы расступались с обеих сторон. Вершины маячили вдали темными пирамидами, то выступая одна из-за другой, то скрадываясь. Алмазным блеском горели низкие созвездия. По-осеннему ясный и прохладный воздух, хотя август был в середине, заставлял ежиться. По лощинам вились смутные хвосты тумана.
Двигались, прячась за кустарниками, вдоль галечного берега речушки. Вода, разогнавшаяся с тающих ледников, шумом заглушала цоканье подков. Дозорные, высланные вперед, подождали походную колонну у брода и снова оторвались. Вместе с ними находился полковой разведчик, который уже бывал здесь утром и донес о расположившейся в ауле вражеской коннице.
Глухая дорога оборвалась возле деревянного строения. На подъем, в глубь хвойного леса повела тропа. Отдохнувший Цыганок не сбавил шага. А идущий впереди иноходец Труфанова, с привьюченным к седлу ручным пулеметом, всхрапнул и почти пополз, припадая на задние ноги. Под высокими сводами смолистых сосен стало зябко и еще темней. Ехали не меньше часа. Но вот тропа обогнула валуны, и за редколесьем проглянула вырубка. По колонне передали приказ командира:
– Придержать коней!
Внизу, за речкой, откуда доносился собачий лай, на всхолмленном пространстве проступали очертания домиков. Ни в ауле, ни вблизи его движения не обнаруживалось. Расколин собрал казаков.
– Слушай мою команду! Взводу Левченко зайти с правой окраины, с тыла, на полном аллюре. И не жалеть патронов и гранат… Взвод Букарева, как только начнется стрельба, атакует слева. Где разведчик?
– Здесь, товарищ старший лейтенант!
– Дорога от реки к середине аула широкая?
– Двойник.
– Ее перекроют пулеметчики… Главное – не давайте фрицам опомниться! Командирам взводов следить, чтобы в горячке не угробили друг друга… Стрелять только наверняка! В затяжной бой не ввязываться. Отходим этой же дорогой… Есть ко мне вопросы? – Глухой, прокуренный голос Расколина зазвенел: – Товарищи! За Родину, за Сталина – вперед!
Он первым рванул повод, пуская коня под горку. По луговине стекли к вязкому, изломистому берегу. На этот раз брод оказался глубже, – вода залилась в сапоги. Левченко со своим взводом свернул направо, обходя аул по жнивью. Общее возбуждение охватило и Якова, припавшего к шее скакуна. Он невольно ощущал, как вскидываются на скаку ножны и как выпирают в карманах штанов гранаты со вставленными запалами, как теснит грудь ремень карабина.
Вот она, грунтовка, ведущая от аула к горловине ущелья. Четко обозначились стены ближних домов. Казаки пришпорили коней…
Окрик по-немецки! С явным опозданием навстречу застрочил автомат и захлебнулся. Казачья лавина смела пост охранения и ворвалась в улочку, запруженную подводами с деревянными колесами и распряженными лошадьми. На выстрелы из дверей мазанок выбежали люди в нижнем белье, паля наугад, перекрикиваясь растерянно и озлобленно. Гранаты, посланные казаками во дворы, угомонили автоматную заполошь.
Якову бросилось в глаза, как по неогороженному садику опрометью летел к остроконечному стогу кряжистый дядька. Цыганок достал его коротким броском. Слыша за спиной надсадный храп коня, драгун завилял из стороны в сторону. Яков выдернул шашку и резким замахом рубанул по белеющей спине. На удивление легко впилась сталь в человеческое тело. Убегающий даже не вскрикнул, безжизненно рухнул ничком… Цыганок, почуяв кровь, шарахнулся, вынес на улочку. И – споткнулся, стал оседать на передние ноги. Яков рванул повод, но дончак отяжелел и лег, елозя головой по каменистой земле. Даже под седлом было ощутимо, как судорога волной пробежала по крепким мускулам. Ошеломленный, Яков упал рядом, сдернул карабин и полностью истратил две обоймы.
Между тем инородцы (наряду с немецкой, раздавалась и румынская речь) стали действовать смелей, цепью залегли на краю леса. Шквальный огонь автоматов накрыл улочку. Казаки повернули обратно. Яков, отмечая, что перестрелка не гаснет лишь на этом конце аула, что взвод Букарева почему-то медлит, второпях отвязал от луки вещмешок и пополз к околице. Короткое русское «ура» заглушил клекот вражеских пулеметов. Послышался рев запущенного двигателя танкетки. Яков поднялся на ноги, заметив скачущих казаков, громко крикнул навстречу:
– Стой! Меня возьмите!
Но никто в суматохе не остановился, не услышал его.
Перебежками Яков добрался до крайней хатенки, где и догнал его Антип Гладилин. Круто осадил свою Лучину, давая товарищу запрыгнуть. Лошадь, ощутив удвоенную тяжесть, с трудом взяла рысь. За околицей их настиг Аверьян.
– Робя, аллюр три креста! Гонятся.
На жнивье, понимая, что такой подвижкой далеко не оторвешься, Яков спрыгнул на землю и схватился за край переметной сумы. Поспевал за Лучиной до тех пор, пока от запального, сумасшедшего бега не зарябило в глазах. Уже рукой было подать до берега, близким казалось спасение, когда от взрыва за спиной мир земной вдруг опрокинулся…
Сознание вернулось к Якову с ощущением боли во всем неподвластном теле. Пахло хвоей. Вблизи разговаривали свои. Он открыл глаза, с трудом приподнял голову. Рядом с Левченко, прислонившимся к сосновому стволу, сидели Гладилин и Аверьян, на куче папоротника лежали Труфанов, Голубенко и разведчик. Меж стволов розовел утренний туманец.
– Ожил? Ну, как ты? – спросил Анатолий Филиппович, уловив взгляд Якова. – Боялись, хана тебе… Ты меня слышишь?
– Слышу, – тихо отозвался Яков и поморщился. – Голова раскалывается… А где же остальные?
– Гм, прыткий какой, – хмуро усмехнулся Антип. – Радуйся, что сам уцелел. Можно сказать, чудо спасло! Рядом снаряд ахнул. Другого бы в клочья, а тебя оглушило… Эх, думаю, призвали Яшку на службу в рай. Оборачиваюсь: ползет на карачках. Да назад! За тобой…
– Не бреши, – осадил балагура Аверьян. – Оконтуженные не полозят… Так и скажи, что Лучину под тобой осколком… А как пешим оказался, то пожалел Якова, не бросил одного.
– Ей-богу, не вру! На четырех конечностях отмахивал, как пес. Аль, думаю, запрыгнуть на Яшку? Живо довезет… – незатейливо шутил Антип, желая подбодрить товарища.
Яков попросил воды. Хозяйственный Аверьян напоил его и, завинчивая фляжку, раздумчиво обратился к командиру взвода:
– Может, на макушку горы карабкаться? Знатье бы: кто на той стороне… Имеется у вас карта, Анатолий Филиппович?
– Двухверстка-то есть, – вздохнул Левченко и достал ее из полевой сумки. – Да вот разобраться… Гора на горе, речка на речке… Сам черт голову сломит! Хоть бы один точный ориентир!
– А этот аул обозначен? – спросил поднявшийся Голубенко, коренастый, высоколобый парень, переведенный недавно из дивизионной школы младших командиров. Казаки уважали рассудительного кубанца, зная, что до войны он работал учителем.
– Другие вот они: Кизилаул, Бай и Дахе-Хабль… Здесь – Кура-Цице. Левее – Сухая Цице… Глянь, сержант. Ты зорче. Так мелко написано, – с досадой сказал Левченко и, куснув кончик уса, добавил: – Не шибко я обучался этим штабным премудростям.
Голубенко тщательно изучил карту, поворачивая ее так и этак, и, в конце концов, сделал неутешительный вывод:
– Эта местность не указана. Мы от перевала двинулись на восток, по ущелью. Значит, судя по масштабу, аул вот тут, – ткнул он пальцем за край листа.
– Дойдем! Я помню дорогу, – подал голос разведчик.
Анатолий Филиппович обнажил свою бескудрую голову, потер обшлагом гимнастерки звездочку на фуражке и объявил:
– Переждем. Пусть немцы успокоятся. А на ночь двинемся. Не очень-то я этим картам доверяю! В гражданскую, на Украине, был у нас похожий случай. Заперлась наша сотня в дебри лесные. А командирчик, из благородных, гад, в карту тычет…
Головокружение заставило снова закрыть глаза. Мысли спутались. Забылся надолго, точно упал в темную пропасть.
Очнулся Яков с каким-то неясным ощущением утраты. И вдруг окатило: потерял Цыганка! Гнедой красавец так и встал перед взором: рослый, поджарый, с точеными бабками.
– Ты чо, мил-друг? – склонился Антип, тревожно глядя. – Больно? Аж слезой тебя прошибло. Скрежетал зубами, будто камни грыз.
– Нет, уже легче. Коня жалко…
– А мне не жалко? Заведем других. Тут самим бы ноги унести! Окромя нас, так полагаю, никого в живых не осталось. Вот где горе! Букаревский взвод, при нем Голубенко был, на колючие заграждения напоролся. Пока обходил их, немцы всполошились. И нас погнали, и Букарева встретили пулеметами. Кто ж знал, что подкрепление подошло?.. Моя очередь идти на пост, а ты, коли смогешь, встань. Возьми мой вещмешок. Пожуй сухариков, братушка…
11Слухи, доходившие в Ключевской, жалили хуторян змеиными укусами. Поговаривали и о грабежах, и о зверствах карательных отрядов, состоявших из русских и калмыков, которые выискивали и расстреливали активистов. Долго не сходил с языков женщин, потерявших последний покой, случай в одном из сел, где пьяные фрицы изнасиловали женщину-еврейку и двух ее дочерей-подростков, а затем облили их бензином и подожгли, чтобы сфотографировать бегущие живые факелы… А вот то, что оккупанты не только не распускают колхозы, а пуще того, наказывают за расхищение и порчу общественного имущества, многих повергло в недоумение и насторожило. Грешны были, грешны… Втихомолку растащили по дворам лавки и столы из клуба. Опустошили сельмаг. Заядлые курильщики, в основном, старики, распотрошили подшивки газет и учинили дележ книг в библиотеке. И когда Степан Тихонович по былой бригадирской привычке пытался пристыдить мазуриков, те напоминали:
– Ты бы, Тихонович, лучше батьке укорот дал. Кто, как не он, дедов подбивал? Хоть бы книжку, какую детям оставили.
Безвластие в хуторе длилось почти неделю.
Непросто, совсем непросто притиралась Фаина к беспорядочной, колготной и такой однообразной, по ее мнению, хуторской жизни. Вопреки всем душевным усилиям, Шагановы оставались ей чуждыми. То ли оттого, что были они – горожанка и исконные землеробы – слишком непохожими, то ли по той причине, что понимали случайность и недолговременность сожительства. В любой час Фаина могла покинуть хутор… И – не могла! Расправа румын с молодой Антониной Лущилиной отрезвила и заставила задержаться в гостеприимной семье. Уже на второй день Фаина обговорила с Лидией и ее свекровью условия проживания.
– Ты сама-то как хочешь? – спросила Полина Васильевна. – Квартировать и питаться с нашего стола? Тогда, конечно, за деньги. А ежели как сейчас, навроде гостьи, тогда – другое дело. Будешь пособлять, с нами крутиться… Про оплату и молвить совестно!
– Сидеть сложа руки я не смогу, – подтвердила Фаина.
– Ну, и ладно. Работы по горло… Что не так скажем – не обижайся. Мы люди прямые. За душой не таим. Была дворянкой – становись крестьянкой.
С того и начались Фаинины мытарства! С особым старанием принялась она вместе с Лидией чистить на завтрак картошку. Минуту хуторянка терпеливо молчала, а затем остановила:
– Ты и ножик держать не привыкла. Режешь, а не чистишь. Вот как надо! Пускай нож не рубо, а вскользь. – С лезвия соскользнул на глинобитный пол летницы длинный розовый завиток. – Картошка молодая, шкуринка тонкая. Понятно?
Как учили, сосредоточась, стала Фаина двигать ножом и… порезала палец. На другой день доверили ей прополоть помидорную делянку. Глянула Полина Васильевна – и закачала головой. Вместе с осотом вянули под солнцем стебли, усыпанные бурелыми шариками.
Настал черед копки картофеля. На огород вышли пораньше, чтобы управиться до жары. Вонзая лопату под бугорки земли с пожухлыми бодыльями, Степан Тихонович вывернул первый ряд кустов. Пятясь, взялся за следующий. Лидия расставила ведра.
– Бери два крайних куста. А эти четыре – мои. Едовую бросай в цибарку, а мелочевку и изъеденную – в ведерко. Выбирай поглубже!
Натянув холщовую рукавицу на пораненную руку, начала Фаина с задором. Но довольно скоро он иссяк. Кусты попадались разные: и с крупными картошинами, и величиной с горох, которые приходилось не выбирать, а буквально выклевывать двумя пальцами. Не работа, а каторга!.. Время тянется неимоверно медленно. Из головы выветрились все мысли, раздражение от нудной и однообразной работы нарастает. А Лидия, напевая, обшаривает ямки, безошибочно бросает картошку по ведрам да еще успевает помогать напарнице. Размеренно вершит свое дело Степан Тихонович, изредка поплевывая на ладони. Уже и солнце распалилось. На огороде пыльно. Чувствуется запах молодой картофельной кожуры и горячей земли. Скука невообразимая, глухая. Ох, скорее бы докопать! С жалостью подумала Фаина о хуторянах, вынужденных всю жизнь ковыряться в земле, возиться со скотиной, чистить навоз… Что они видели и знают? Наверное, ни разу не отдыхали на море, не бывали в театре. Верят в домового… Ее близорукий взгляд, скользнувший по двору, остановился на двух крестах. Они синели за домом, между кустами вишенника. Четко обозначились боками и крашеные гробнички.