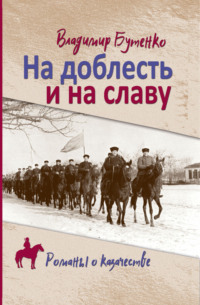Полная версия
Казачий алтарь
Как назло на вербе затрещала прилетевшая сорока. Дядька Петька, тугой на ухо, не все понимавший в приказе, озирнулся.
– Самое важное, тварь, не дает послухать… Яша, запоминай дюжей.
Лет пятнадцати паренек, в мешковатой гимнастерке, украдкой кинул в сороку камень. Дурашливая птица снялась, спикировала на противоположный берег. Оттуда должны были появиться немцы…
– Сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов…
– Главное – хорошо вооруженных, – с двусмысленной ухмылкой произнес Аверьян Чигрин. – Лучше бы нам оружие-то…
– Сформировать в пределах армии от 5 до 10 штрафных рот, куда направлять рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить кровью…
Два взрыва подряд вздыбили землю неподалеку на кукурузном поле. Справа от станицы отчетливо забухали тяжелые орудия. Политрук, не шелохнувшись, дочитал приказ до конца.
Эскадрон рассыпался. Тут и там слышались голоса командиров взводов, отводящих казаков на закрепленные рубежи. Обоз и полевая кухня отправились вслед за коноводами в лесопосадки. Связисты тянули провод от КП эскадрона, разместившегося в полуверсте от реки, к штабу полка. Солдаты станкового взвода расстредотачивались вдоль всей полосы обороны, оборудовали пулеметные гнезда. Артиллеристы полковой батареи еще дальше устанавливали три своих пушки, маскируя их нарубленными ветками. Макагонов был на берегу, крепко озадаченный тем, что эскадрон вместо положенных восьмисот метров занял линию обороны в два километра, лично проверял, как шло окапывание, четким голосом отдавал приказы.
Взвод лейтенанта Левченко оказался вторым с левого фланга, прикрыв холмики, идущие к станице. С них хорошо просматривался противоположный берег, заросший лозняками, скрытый стеной рослых камышей; выше, на изволоке, тянулось поле чахлых подсолнухов. Позиция, занятая взводом, сразу не пришлась Якову по душе. Враг к реке мог подобраться совершенно внезапно.
Окопы ладили метрах в двадцати друг от друга. Расторопный старшина раздобыл в станице десятка два лопат. Их разделили среди стариков, а все, кто был моложе, частили своими саперными. Вековечный грунт, перепутанный корневищами пырея, снимался с трудом. За работой Яков и не заметил, как накатили воспоминания…
Раненный в правую руку при освобождении Ростова в начале декабря, Яков сдружился в батайском госпитале с Антипом Гладилиным, соседом по палате. Весельчак, черноусый красавец Антип располагал к себе и забавными байками, и добрым характером. Чувствовалась в нем, исконном казаке, внутренняя несуетная сила. В конце февраля Антипа выписали. Яков заскучал, тоже стал проситься у хирурга на фронт. Письмишко от приятеля пришло в срок. Антип сообщал, что служит под Сальском, в кавалерийской дивизии. Настоятельно приглашал в нее и Якова. Судя по тому, что конвертик вручила медсестра, и на нем не было штемпеля военной цензуры, хитрец передал письмо с кем-то попутно.
На городском пересылочном пункте, подав документы угрюмому капитану, Яков добавил, что еще до войны имел первую ступень ворошиловского кавалериста. Попросился к казакам. Как раз в кабинете начальника пересылочного пункта находился прибывший из дивизии немолодой лейтенант. Услышав, что выписанный из госпиталя был ранен в руку, тот отказал: «Мне нужны рубаки. Одно дело на курок нажимать, а другое – в бою саблей работать». Яков решительно предложил: «Товарищ лейтенант, давайте попробуем, кто из нас сильней», – и показал глазами на край стола. Сцепились ладонями, и Яков без особого усилия опрокинул руку офицера. Ухмыльнувшись, капитан посоветовал проигравшему: «Бери, пока даю. Он хоть обстрелянный. А то вы навоюете со своими дедами и юнцами. Тоже мне, ухари…»
После осенних жесточайших боев под Ростовом полковая жизнь показалась Якову однообразной. Бывший сенной сарай, оборудованный нарами, мало походил на казарму. Три железных «буржуйки», несмотря на старания дневальных, обогревали помещение слабовато. Иной раз в умывальниках замерзала вода. Но жили – не тужили! Нередко к добровольцам-казакам наведывались родные станичники. Приезжали клубные агитбригады.
Основной костяк дивизии составляли те, кто не подлежал воинскому призыву, – люди степенных лет и безусые пареньки. Одного страстного желания биться с немцами, которое и собрало ополченцев из городов и весей бывшей Области Войска Донского, оказалось недостаточно. С осени до февраля находились они на неопределенном положении, пока, наконец, не приняли присягу и не были взяты на государственное обеспечение. Обыкновенная гражданская одежда стала постепенно сменяться красноармейской формой. А вот в оружии по-прежнему была нужда. Шашки, винтовки и карабины из старых арсеналов имели далеко не все.
Но главное для казака – лошадь! Ежедневный распорядок в дивизии и строился, исходя из этого непреложного правила. Утром – подъем, поверка. Затем – поение и кормление лошадей, седловка. Занятия по строевой подготовке, джигитовка, «рубка лозы», изучение материальной части оружия. Не всякий день, ввиду ограниченного количества боеприпасов, – стрельба по мишеням. Снова – уход за лошадьми. Политподготовка. Громкая читка газет. Полчаса свободного времени. Вечерняя чистка, поение и кормление лошадей.
Гнедой дончак-трехлеток Цыганок не сразу привык к Якову. Артачился, на первых порах аллюр держал неровно. Из-за этого Якову не всегда удавалось правильно вымерить расстояние при «рубке лозы». Остроумный Аверьян Чигрин, темночубый казачина из Семикаракорской, съязвил: «Ты, Яшка, навроде как в лапту играешь. Аль конек не слухае?» Яков, не любивший насмешек, промолчал. Вечером Аверьян подошел в деннике к разнузданному Цыганку, уверенно пощупал пальцем у него в углах рта и заключил: «Заеды. Узда ни к черту! Надо укоротить и подогнуть мундштук. Давай. Зараз свободное времечко, исделаю как положено». И вскоре Цыганок твердо слушался всадника. От бывалых воинов, понюхавших пороха и в Первую мировую, и в гражданскую, набирался Яков кавалерийской премудрости, – казачий внук, по обычаю посаженный в год Тихоном Маркянычем на коня!
В конце марта, отмахав по степи двести верст, 116-я Донская казачья кавалерийская дивизия походным порядком прибыла к станции Кавказской, где, согласно приказу Сталина, в состав 17-го казачьего корпуса были сведены также две дивизии кубанцев. Со сталинградской земли подходила еще одна дивизия донских казаков, пополняясь лошадьми сальских конезаводов.
В начале мая кавалеристы рассредоточились вдоль Азовского моря…
6Тяжелая, продымленная ночь падала на степь. Духота ощущалась даже здесь, на берегу. Семь потов сошло с Якова, пока он, оголенный до пояса, дорыл свой окоп. Командир взвода лейтенант Левченко устало присел на корточки, наблюдая, как Яков разравнивает бруствер. На груди бывалого буденновца колыхнулся орден. На широком лице браво смотрелись завитые кончики длинных усов. Он зачерпнул в ладонь комкастой землицы, помял ее и вздохнул:
– Влажная. Налипает на лопатку?
– Вода, наверно, близко…
– Близко. В третьем отделении только до пояса и дорыли… Я с ними буду. А ты уж сам командуй… Если еще при силе, помоги Матвееву-младшему. Из сил пацан выбился.
– Хорошо. А как мои остальные?
– Докапывают. Вот что, Яков… Без моей команды отсюда ни шагу! – предупредил лейтенант, которого казаки чаще звали просто по имени-отчеству. – Приказ есть приказ. Хотя… Сам понимаешь…
– Слушаюсь, Анатолий Филиппович. Можно разок нырнуть?
– Быстро и по очереди. Сейчас ужин подвезут.
Проводив Левченко, Яков пошел к бойцам своего отделения. Иван Манацков, дядька Петро Матвеев и Зосим Лукич Лунин уже завершали работу. Аверьян, управившись первым, дорыл окоп за Шурку Матвеева, который сидел рядом на траве. Завидев командира, паренек вскочил, вытянулся. Невзначай задетый жалостью, Яков спросил у него совсем не строго:
– Искупаться хочешь?
– А можно, товарищ младший сержант?
– Дуй! Туда и обратно.
Легкая речная водичка, как всегда, взбодрила и придала казакам уверенности. Вовремя подоспела и полевая кухня. Набрав в котелки перловки с говядиной, а в кружки – чаю, бойцы вернулись к окопам. За считанные минуты справились с едой. Закурили.
Канонада приближалась с севера. Отголоски ее перекатывались и направо, и налево. Фронт, без всякого сомнения, ширился. И как же чужды были эти саднящие, сеющие смерть залпы устоявшейся здесь тишине! Все заметней веяло от темно-серебристой глади свежестью, пахло береговыми травами и молодым камышом. В зарослях батлавука паслись, щелоктали в тине клювами утиные выводки. Изредка зеркало мелководья, отразившее звездное небо, изрябливали пущенные ими волнушки.
– Эх, зараз бы сеточку тут поставить, – вожделенно заметил Иван Манацков, невысокий, верткий казачок из верхнедонцов. – Сазан днями по ямам стоит, а об энту пору снимается.
– Об энту пору, братцы, бывало по молодости, мине от бабы варом не отольешь, – сказал дядька Петро, воспользовавшись тем, что внук его, Шурка, мыл в реке солдатские котелки и кружки. – Да и рыбалка – дело приятное… Ктой-зна, чи придется ишо…
– Вот как получилось! – крутнул головой Аверьян. – В аккурат нам выпало сталинский приказ исполнять. Ни раньше, ни позже.
– Без воли Господней и волосина с головы не упадет, – пробасил Зосим Лукич и огладил свою бородку. – Я с «живыми помощами» в кармане империалистическую войну прошел и гражданскую, и хоть бы пуля царапнула. И теперича они при мне.
– Это верно. Молитва на пользу, – поддержал его Матвеев-старший. – Многих спасала и, даст Господь, нам поможет… Нема тут политрука? – оглянулся лихой рубака. – А то за агитацию…
– Гутаришь – спасала. А почему «ганс» сюда дошел? – возразил Аверьян, ложась на спину. – На бога надейся, а сам не плошай. Коли двинутся супротив нас танки под орудийную музыку, то…
– Стало быть, так на роду написано, – веско прервал его Зосим Лукич. – Перед богом дюже мы провинные… Как Христа распинали, так и Расею распять хочут. Через грехи наши… Вот что!
– А рази ж в гражданскую думали мы про грехи? – возразил дядька Петро. – Восстали друг на друга… Коли за кадетскую власть – к стенке! Меня впоймают – в распыл за большевизм.
– То-то и оно! – ухмыльнулся Зосим Лукич. – Были единым казачеством, а раскололись! Ить ты вспомни… В двадцатые годы притесняли за то, что казачьего рода? Было дело! В коллективизацию? Обратно так! Шаровары носить запрещали… А зараз? Снялись мы отрядами из хуторов и станиц, поднялись за Расею. Силком нас не тянули. Потому как в кровях наших оборонить страну от ворога… Я, казаки, о другом дюже сокрушаюсь. Коли дрогнем мы тута, в первых лютых боях, то припомнят нам и нагайки, и царскую службу, и черт-те что… Никак низя немцу поддаться! И приказ Сталина правильный… Некуда отступать!
От реки, погромыхивая котелками, подошел Шурка Матвеев, сел рядом с дедом. Петр Савельевич пододвинул к нему скатку шинели, заботливо сказал:
– Приляг, Шура. Ночка длинная.
– Еще чего! Около воды слышно, как по кукурузе что-то трещит.
– Это завсегда так перед боем, – поучающе бросил Манацков. – Я с финами полгода провоевал, пока не списали по ранению. Лежишь в лесу, в сугробе, и чудится, что снайпер ветками шебуршит. Глянешь – ветер ели качает. А все одно поджилки трясутся.
Аверьян поднялся на ноги, прислушался. Его рослая фигура закрыла наполовину темнеющий вдали холм. Голова достала до звездного неба.
– Под такой оркестр задрожишь, – проговорил он неспешно. – На басах жарят, орудия… А это – россыпью, пулеметы. И минометы! Квакают по-лягушачьи… Должно, бой верстах в пяти?
Встал и Яков, оббил с ладоней прилипшие травинки. Тоже прислушался. Действительно, с поля доносился непонятный шум.
– Расходимся по окопам, – поторопил Яков. – Приготовиться к бою…
Разом охватило его гнетучее напряжение, уже испытанное прежде в боях. Позади пространство казалось спасительно-родным, а то, что таилось перед глазами, – отчужденным, враждебным, хотя и за рекой была казачья степь. «Верно в приказе сказано: прятались за спины друг друга, драпали, вот и докатились до Кубани! Куда отступать? – тоскливо размышлял Яков. – Сто пятьдесят верст на восток – и мой Ключевской! Спасать свою шкуру, а Федюньку, родителей и Лиду отдать на поругание? Нет, без них мне тоже не жизнь!»
Карабин был заряжен еще со вчерашнего вечера, когда полк начал передвижение. Яков положил его на бруствер, из вещмешка перегрузил в подсумок все три обоймы. Вставил в гранату запал, примостив ее ручкой вверх на пласт земли. И прилег возле окопа на траву…
Хлебнувший пехотинского лиха, Яков усвоил, что фронт делится на участки, где противник наносит главный, массированный удар, и на районы вспомогательных операций. И сейчас, прислушиваясь к гулу, наблюдая, как кромсают темь сполохи, хранил в душе надежду, что эскадроны минует участь смертников, обреченных. В ближней степи по-прежнему было безмолвно. Сверлили ночь сверчки. Под их монотонную песнь бойцы в окопах будто уснули. Но странное предчувствие беды не покинуло Якова даже тогда, когда прикрыл глаза и полузабылся, сломленный усталостью. Почудилось, что отдыхает он, Яков, после пахоты на полевом стане, и дед Тихон тут, и бредет по лугу огромная вороная лошадь…
Первый же выстрел, взломавший долгое затишье, остро отозвался в душе. Яков спрыгнул в окоп, схватил карабин. Близкая опасность стянула нервы в узел. В жидком блеске полумесяца справа, по гати, двигались черные силуэты. Автоматчики, находившиеся у камышей в секрете, дали по нам длинные очереди. Ответно слаженно зарокотали вражеские автоматы. Пи-иу! Пи-иу! Пули пропели над самыми окопами. Мигающие свечки стреляющих автоматов зажглись по всему противоположному берегу! И разом погасли. Как по команде стихли. Яков понял, что немцы лишь прощупали линию обороны.
Через минуту в небе зависли три осветительные ракеты. Мощно, обвально вслед за автоматами заработали немецкие пулеметы. Под их прикрытием на гать хлынула людская лавина.
– По врагу – огонь! – надрывно крикнул где-то неподалеку Левченко.
Вдоль берега, обороняемого казаками, прокатился оружейный залп. Дробно забухали карабины, подали редкие голоса автоматы. С надсадкой подхватили гром ручные и станковые пулеметы. Эскадрон вступил в бой!
Яков стрелял прицельно, стараясь гасить за рекой вспыхивающие свечки. А гать обстреливали казаки соседнего взвода. Густо запахло пороховым дымом. Все чаще клацали затворы винтовок и карабинов. Пальба нарастала. И жутко было замечать Якову, как вкривь и вкось стегали по их берегу смертоносные жгуты трассирующих пуль…
От дальних камышей стали отчаливать лодки. Пулевая россыпь ударила в бруствер, хлестнув по лицу землей. Яков припал на корточки, унимая резь в запорошенных глазах. Переждал. Когда же вновь поднялся, то понял с ужасающей ясностью, что остановить три лодки, приближающиеся к этому берегу, уже не удастся.
Ожесточенный бой полыхал слева, у станичного моста. По наступающему врагу прямой наводкой били пушки. Немцы пытались прорваться к позициям казаков посуху и ударить во фланг. Те же, кто высаживался с лодок, должны были расчленить линию обороны и порознь ликвидировать очаги сопротивления. Это вовремя понял Макагонов. И немедленно направил связных к командирам взводов.
Проламывая камыши, вскоре показались в освещении меркнущих ракет бегущие зеленые призраки. Они были метрах в пятидесяти от окопов. Уже ничего не испытывал Яков, кроме отчаянной ненависти и готовности к худшему. И стрелял, стрелял напропалую!..
Взрыв гранаты, брошенной кем-то из казаков, прижал атакующих к земле. Тут же Яков швырнул свою, следом за ним – Аверьян, чей окоп был рядом. Пользуясь заминкой немцев, Левченко вылез из окопа и зычно крикнул:
– Взвод! Бойцы! За-а мно-ой!
Внезапный, безрассудный набег казаков ошеломил немцев. Увидев рядом точно вставшую из-под земли неприятельскую цепь, они в растерянности решили, как часто случается в ночном бою, что контратакующих больше, чем на самом деле. Вступить в рукопашную с превосходящими силами – значило бы обречь себя на гибель.
Стараясь держаться плотней, казаки догнали немецких солдат на мелководье. Яков налетел на плечистого парня с закатанными рукавами френча. Дрались кулаками, сознавая, что в живых остаться только одному. Изловчившись, крепыш нырнул, загреб Якова под колени и повалил. Катались по взбаламученной грязи, норовя сдавить друг другу горло. Яков пропустил удар коленом в живот. И ослабил руки. А пехотинец уже нащупывал на своем ремне тесак… Небывало отчетливо мелькнуло в голове, что сейчас он, Яков, умрет! И, превозмогая боль, с натужным стоном отшвырнул парня, вскочил первым, успев садануть сапогом по каске. Она тупо громыхнула. Немец вскрикнул, сбитый на спину. Тут же Яков каблуком припечатал ему шею. И явственно услышал, как смертельно хрустнули позвонки. Минуту, не сознавая себя, втаптывал голову мертвого в ил…
На берегу Яков подобрал свой карабин. В камышовых прогалинах буйствовала рукопашная. Вскипал ядреный русский мат. Около вербы Аверьян с обеих рук охаживал неуклюжего фрица в кителе. Офицер не оказывал никакого сопротивления. Согнувшись, закрывал лицо ладонями и что-то бормотал. Яков передернул затвор карабина, жестко бросил:
– Отойди!
– Это – командир, – предупредил Аверьян. – Нам за него медали…
Яков вскинул карабин и в упор выстрелил. На мгновенье его ожгли объятые ужасом глаза! Даже в полумгле различил Яков их жутковатый, молящий блеск…
Теснимые казаками, немецкие пехотинцы вплавь возвращались на северный берег Еи. Добивать их на воде нельзя было по двум причинам: плотный пулеметно-автоматный огонь прикрывал отход и, к тому же, ракеты догорели. Оружейная перепалка длилась еще больше часа.
На заре Левченко собрал взвод у крайнего окопа, в прикрытии искореженной осколками старой вербы. На разостланной плащ-палатке неподвижно стыли Игнат Чумаков, Федор Алексеевич Матехин, Иван Манацков. Раненного в плечо Шурку Матвеева увел санинструктор. Вместе с внуком отлучился и дед.
Сняв пилотки, сидели подле убитых в скорбном молчании. Нечеловеческую усталость после боя ощущали все, кроме, пожалуй, Зосима Лукича. Он по-прежнему не терял присутствия духа. Завел покойникам глаза, по-христиански сложил их руки. Перекрестившись, молвил:
– Убиенных ратников за святое дело Господь берет в рай. Жили казаками и полегли по-казачьи! Царствие вам небесное! – И горестным голосом добавил: – Гутарил же про «живые помощи», а не послухал Иван…
Яков сидел, сцепив на коленях ладони. Неведомая опустошенность холодила душу. А мысли против воли перескакивали с одного на другое, не позволяя обрести прежнюю твердость духа после того, как там, на берегу, застрелил безоружного. Притягивали взгляд трупы немцев, темнеющие вдоль камыша. Вдруг померещилось ему, что оттуда тоже кто-то пристально смотрит…
Яков поежился и, чтобы прогнать наваждение, скороговоркой шепнул Аверьяну:
– Зря я того офицера…
– Не жалкуй! Вон, полегли братушки наши… Ты понимай, что немцы не человеки, а вороги. На войне, Яша, все кровью мазаны. Про милость помнить не моги! Либо ты его, либо наоборот… А как в сабельном бою? Там ишо страшней! Махнул шашкой – и полетела душенька!
Когда развиднелось, томимый волнением, Яков украдкой попросил у Лунина молитву. Зосим Лукич достал из нагрудного кармана гимнастерки несколько потертых листков. С важным видом пояснил:
– «Живые помощи» разные есть. А как ты заместо крестика носишь комсомольский значок, то и молитву дам тебе соответственно. Уповай на ангела своего!
В сторонке Яков торопливо набросал химическим карандашом на краю газетного обрывка:
«Молитва Ангелу Хранителю.
Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь».
Вскоре Якова позвали на летучее комсомольское собрание, где косморг эскадрона привел его в пример другим, похвалив за храбрость и за то, что убил двух фрицев.
А над степью, готовой в любую секунду содрогнуться от нового боя, занимались зарева: на востоке встающий рассвет сулил надежды на лучшее, на западе полыхало огнище нив, предвещая беды. Между этих двух зорь – живой и мертвой – держался на ниточке великий земной мир…
7До самого полудня выветривался из хутора смутный чад горелого зерна. А в жару в Ключевской внезапно нагрянули румыны.
Танкетка и грузовик с дюжиной солдат, ревя моторами, проследовали до бывшего майдана и остановились у колодца. Громкая певучая речь далеко разнеслась по затихшим подворьям. Раздевшись до трусов, галдя и смеясь, румыны окатывали друг друга водой из ведра, мылились, некоторые даже умудрялись бриться. Судя по всему, настроение у них было бодрым и деловым. Дождавшись пустого грузовика, кузов которого был снабжен решетками, инородцы разбились на группы и разошлись.
Степана Тихоновича Шаганова в этот час, как назло, разобрала дремота. Вернувшись поздним вечером в хутор, он направился не домой, а к присухе, Анне Кострюковой. Заперев на ее базу двух бычков, рассказал, как удирал с другими погонщиками от немецких танков. Однако и тут не растерялся, подвернул двух телков – для своей семьи и для Анюты. Та, в свою очередь, поведала о бомбежке, о распределении коров и раздаче зерна. Степан Тихонович, оказавшись пленником обстоятельств, только развел руками. Затем, скрываемый темнотой, он искупался в корыте. И не стал ждать, когда Анна воротится от зернового амбара, – принял для аппетита первача, сдюжил миску борща и завалился на перину.
Ощутивши спросонья влекущее бабье тело, Степан Тихонович исподволь загорелся, притиснул податливое тело молодайки. Она ойкнула, ложась удобней, и засмеялась:
– Легче ты, бугай бешеный… Лицо щетиной обколешь.
…Жизненные тяготы действуют на людей по-разному. Одних повергают в уныние, других подхлестывают. Анна, гулявшая и до мужа, и при муже, никогда не отчаивалась! С пятидесятилетним Степаном Тихоновичем, отличавшимся прежде строгой порядочностью, связалась она просто из-за неимения в хуторе подходящих мужиков моложе. Случилось это в нынешний сенокос. Шла Анна на луг, а бригадир обгонял ее на коне. Она возьми и попроси всадника подвезти. Степан ехал без седла, подстелив только фуфайку. Усевшись сзади, Анна обняла его за пояс и беззастенчиво прижалась грудьми, пошутила: «А не заревнует Полина? А то мы, солдатки, скорочко побесимся!» Около безлюдной полосы бригадир урезонил: «Ты, Анюта, либо слазь, либо отслонись…» – «Еще чего! Аль греха испугался? – и, уронив руку, быстро-бесстыдно бормотнула: – Гля, сучок вырос…» И Степан Тихонович не совладал с собой…
И в эту ночь Анна была ненасытной. Вспотевшему от долгого усердия бахорю намекала в минуты передышки:
– Первый куплетик прикончили, а на второй хватит духу?
– Не озоруй. Обожди ты…
– Давай на пол спустимся. Там прохладней.
И снова – придушенный смех Анюты, ее ласкающие руки, бессовестные замечания, порочно-набухшие губы…
Уже при светлеющих окнах, «дотянув песню», забылся Степан Тихонович спасительным богатырским сном. Он не слышал, что Анна вскоре встала и принялась как ни в чем не бывало за хозяйские хлопоты.
Разбудили его докучливые мухи и духота. Солнце уже успело накалить жестяную крышу. В висках ломило. И на душе было как-то нехорошо. «Как будто меду переел, – подумал Степан Тихонович с едкой укоризной. – Связался с отрывком от черта… Нет, наверно, отпостился я в свое время и для таких ночек слабоват. Да и лагерь сказывается… Подорвал силы на проклятых соснах… Дома дел по горло, а ты таись тут до темноты…» За долгие годы впервые изменяя жене, он казнился и мучился душой, и находил себе оправдание лишь в том, что Полина с возрастом стала к нему равнодушной. «Прежде ведь не шкодил, – объяснял он сам себе. – Была баба как баба. А теперь то с внуком возится, то перед домашними ей совестно – мол, услышат, – то она усталая…» Однако угрызений совести побороть не мог. Втайне и осуждал Анну, и корил за то, что шалопутничает, позабыв о муже-фронтовике, а высказать этого не решался.
Резкие удары в наружную дверь мигом оборвали дрему и подбросили Степана Тихоновича на кровати. Подумав, что заявилась какая-то соседка, он схватил одежду и нацелился за шифоньер. Анна почему-то медлила, не открывала. Стук повторился настойчивей. Степан Тихонович глянул в окно и обмер. Немцы! Вихрь мыслей промчался в голове. Тело налилось свинцовой тяжестью. Попадавший в переделки, он помнил, что нельзя раздражать приходящих в дом с оружием и скрепя сердце поплелся к двери. Она была не заперта, и при желании немцы могли вломиться безо всякого предупреждения. Эта догадка чуть успокоила. Надсадно кашляя, Степан Тихонович вышел на крыльцо шаркающей походкой тяжелобольного.