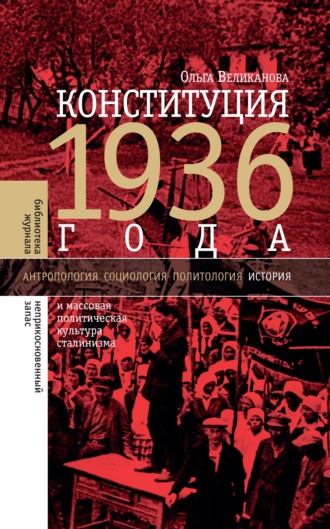
Полная версия
Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма
Историки иногда выражают скептицизм по поводу попыток выяснить, что люди «на самом деле» думают в авторитарных режимах, потому что несвободные люди склонны некритично воспринимать официальную правду и боятся выражать оппозиционные взгляды. В данном исследовании полностью признается эта эпистемологическая проблема. Его главная находка, еще не истолкованная и не объясненная в историографии, – это массовое неприятие обществом демократических принципов сталинской «священной» конституции, которое люди не боялись громко озвучивать. Другая находка – наличие либерального, примирительного дискурса в общественном сознании, несмотря на атмосферу нетерпимости, характерную для сталинской диктатуры. Скептический и проницательный наблюдатель, британский консул в Ленинграде, заявил в 1934 году: «Возможно, общественное мнение стоит поизучать, даже здесь»[20].
Эту задачу – изучения настроений и мнений населения в 1936 году – я ставлю перед собой в этой книге, тем более что в историографии конституция 1936 года изучалась в основном с точки зрения правительственной и судебной системы – в работах П. Соломона (1996), К. Петроне (2000), Э. Уимберг (1992), А. Гетти (1991) и в советских трудах. Последние основное внимание уделяли политическому процессу и обстоятельствам создания советской конституции: организации комиссии в феврале 1935 года, ее составу из высшего руководства партии и эволюции пяти проектов конституции[21]. Западные авторы, обсуждая основные причины написания новой конституции, подчеркивают цель создания позитивного имиджа на международной и внутренней арене, то есть «рекламный трюк», а также стремление к централизации. Я же показываю, что традиционное толкование конституции как пропагандистского проекта, в основном для Запада, больше не охватывает весь спектр мотивов правительства. В первой части этой книги рассматриваются правительственные цели принятия новой конституции и всенародной дискуссии, а также мотивы последующего отказа от конкурентных выборов и игнорирования демократических принципов, заложенных в конституции. Новые документы, включая внутреннюю секретную переписку руководства, позволяют предложить здесь новую версию об авторстве реформы, которое прежде единогласно приписывали Сталину. Более того, эти документы, а также последние исторические публикации позволяют мне пересмотреть роль идеологических мотивов, экономический и политический контекст реформы и раскрывают тайну зигзагообразной политики 1936–1937 годов с ее поворотом от умеренности к массовым репрессиям.
Хотя историография уделяет больше внимания политическим обстоятельствам создания конституции, мое исследование фокусируется на реакции общества. В отличие от структурной и институциональной перспектив, книга предлагает культурный подход в дополнение к исторической картине того периода. Некоторые авторы обращались к теме реакции общества на конституцию и рассматривали вопросы общественной поддержки и взаимосвязи между демократией, воплощенной в конституции, и террором[22].
Однако первопроходцем в изучении темы был Арч Гетти, который проложил путь для дальнейших исследований. Его статья начала 1991 года, опубликованная до открытия архивов и последующего пересмотра советской истории, опиралась на имеющиеся архивные документы. Гетти первым обсуждал цели дискуссионной кампании не в идеологических, а в социально-научных терминах: выборку общественного мнения, стратегию мобилизации и направления общественного недовольства против местных чиновников. Сосредоточившись в основном на политических перипетиях власти, Гетти на четырех страницах сформулировал основные темы реакции общества на конституцию в Ленинграде и Смоленске, сделав вывод о массовом неприятии большинством либеральных новшеств конституции. Вывод Гетти: конституция с самого начала не была демократическим фарсом. Цель государства заключалась в проведении демократической реформы диктатуры на основе широкого участия населения. Однако после экспериментирования Сталин, напуганный местными чиновниками и враждебностью крестьян, передумал и отменил демократическую реформу и повернул к репрессиям[23].
Эта пионерская статья Гетти послужит основой для дальнейшего обсуждения здесь таких важных тем, как обоснованность его теории демократических реформ и их плановый или непреднамеренный характер, взаимосвязь демократии и репрессий, роль общегосударственной дискуссии в политических поворотах Сталина. И политика, и реакция общества на конституцию, слишком кратко представленная в литературе, заслуживают всестороннего анализа с использованием нового уровня знаний и более широкого круга источников. Методология политической культуры является действенным инструментом для изучения общественного сознания: как развивались политическое участие, массовая мобилизация, идеал народного суверенитета, понятие гражданских прав и индивидуалистических ценностей в специфических условиях сталинизма.
Концепция политической культуры как комплексной системы взаимосвязанных убеждений, представлений и ценностей еще не применялась в исследовании сталинского общества. Классическая типология политической культуры, предложенная Алмондом и Вербой, описывает приходскую (или патриархальную), подданическую и партиципаторную культуры, каждая из которых связана соответственно с традиционным крестьянским обществом, централизованной авторитарной структурой и демократической политической структурой[24]. Эта типология не совсем подходит советским моделям мышления и убеждений, ибо то, что мы видим в советских массовых представлениях, – это спектр характеристик от либеральных ценностей до авторитарных, с тенденцией к простому, биполярному миру, персонификации власти и нетерпимости к меньшинствам. Характер моей источниковой базы диктует несколько иную таксономию. Комментарии граждан тяготели к двум основным категориям: первая группа – комментарии в поддержку демократических, гражданских, умеренных, примирительных, толерантных (например, к религии) ценностей – иными словами, либеральных ценностей. Вторая группа комментариев тяготела к поддержке аффективных, воинственных, нетерпимых, бескомпромиссных и ограничительных – или антилиберальных – ценностей, таких как ненависть к врагам, любовь к высшей власти, общая враждебность, приверженность к ценностям, заявленных руководством. Кроме того, хорошо заметна подгруппа, выражающая коллективистские и клановые ценности, которые в российском контексте можно определить как ценности, ассоциируемые с традиционными крестьянскими обществами. Многие авторы обсуждали сохранение архаичных русских практик при сталинизме, таких как «письма во власть» как примитивный способ представления интересов, возрождение «аристократии» с определенным статусом – номенклатуры (или «бояр», по выражению Гетти) и склонность к коллективной ответственности[25]. Современные социологические опросы часто используют категории демократической и традиционной политической культуры.
Какую бы типологию мы ни использовали – классическую, социологическую или либеральную/нелиберальную, – важно, что ни одна типология не подразумевает однородности политической культуры. В социальной реальности и на индивидуальном уровне всегда присутствует переплетение различных типов культуры: «Гражданин – это особое сочетание партиципаторной, подданической и патриархальной ориентации, а гражданская культура – это смешанный тип политической культуры, в котором наряду с преобладанием составляющих культуры партиципаторного типа органически присутствуют элементы патриархальной и подданической культур»[26]. Кроме того, такие факторы, как стремительность трансформации (например, слом крестьянского мира в СССР в течение нескольких лет), политическая нестабильность и разрыв поколений, особенно выраженные в 1930-х годах, усугубляют многогранность политической культуры в этот конкретный период. «Слишком жесткое наступление на патриархальность может привести к тому, что и патриархальная, и подданическая ориентация могут перейти к апатии и отчуждению. Результатом станут политическая фрагментация и разрушение нации»[27]. Таким образом, классифицируя дискурсы как либеральные или нелиберальные, мое исследование всегда подразумевает культурную смесь, следуя историографическим описаниям советского культурного пространства как «волатильной культуры» (по определению С. Франка и М. Штенберга) или сметенной и перекошенной идентичности, определенной Моше Левиным как «зыбучее общество».
Глава 2
Источники
Начало эпохи массовой политики заставило современные правительства отслеживать мнения граждан с целью более эффективного управления населением. Это привело к появлению социологических опросов и практики полицейского наблюдения. И социология, и полицейский надзор стремились узнать, что люди думают, и столкнулись с проблемой трудноуловимого характера мнений. Даже в свободных демократических странах существует проблема потенциальной неточности результатов опросов. Возможные искажения в результатах кроются в методологии опроса и не только. Опрашивающие агенты могут манипулировать ответами путем формулировки или последовательности вопросов. На неточность результатов опроса могут влиять неучтенные мнения тех, кто отказался отвечать на вопросы, неискренние ответы респондентов, воздействие СМИ и другие факторы. Случаи провала опросов общественного мнения хорошо известны в истории, например, на президентских выборах 1948 и 2016 годов в США, на парламентских выборах 1970, 1974 и 1992 годов в Великобритании, а также на российских парламентских выборах 1993 года с неожиданным успехом националистов. Тем не менее, вероятность неточных результатов не исключает использования опросов как важного инструмента изучения общества.
Это введение необходимо здесь для того, чтобы указать на большую возможность искажения картины мнений, формулируемых и собираемых в условиях, во-первых, сталинской диктатуры и всеобщего страха, во-вторых, в период, когда методика научных опросов была в лучшем случае рудиментарной, в-третьих, в условиях, когда заинтересованная сторона не могла задать соответствующие вопросы населению, а вместо этого какие-то крупные события провоцировали спонтанные высказывания. Эти неординарные в глазах современных социологов условия исторической реконструкции картины общественного сознания вызвали волну критики в академическом сообществе, когда огромный комплекс данных полицейского наблюдения стал доступен ученым сначала в Германии, а затем в 1990-х годах в России – особенно обзоры (сводки и Stimmungsberichte) политических настроений и мнений, составленные органами безопасности для тоталитарных режимов.
Эти обзоры часто критиковались в академической литературе за предвзятость и ненадежность. Жестокая репутация нацистских и сталинских силовых структур, вероятно, способствовала росту скептицизма. В итоге, двадцать пять лет дискуссий об источниках, созданных сталинским режимом, – их ограниченности и потенциале – привели к появлению особого жанра научной литературы о методах их критики и использования, значительно продвинув источниковедение[28]. В последнее время, после десятилетий скептицизма и плодотворных дискуссий, триангуляция всей имеющейся информации по конкретным темам привела к тому, что все больше историков[29] хоть и с оговорками, но признали ценность сводок как исторического источника не только для изучения общества, но и для анализа официальных и институциональных взглядов на общество. «Эти доклады НКВД в архиве КГБ… обычно содержат достоверные отчеты о сельскохозяйственной ситуации в сочетании с сильным акцентом, как и почти все документы НКВД, на якобы „контрреволюционной“ деятельности»[30]. Переоценка коснулась и другого рода источника, традиционно считающегося учеными ненадежным, такого как рассказы и воспоминания заключенных (используемые Александром Солженицыным в качестве источниковой базы для «Архипелага ГУЛАГа»), которые позднее, после сопоставления с архивными документами, были признаны достаточно достоверными[31]. Недоверие к советской статистике сохраняется, хотя, например, демограф Сергей Максудов считает данные переписей 1926, 1937 и 1939 годов относительно более достоверными, чем местная статистика, исходящая из деревень и областей[32].
Данное исследование основано на различных правительственных, личных и зарубежных источниках, в основном на архивных материалах: стенограммах и документах советских органов власти и комментариях к общенациональной дискуссии 1936 года. Хотя советская пресса широко освещала кампанию, большая часть предложений населения была скрыта в государственных архивах. Эти хранилища содержат сотни папок с неопубликованными письмами отдельных граждан в газеты, материалы собраний на предприятиях, анонимные письма в органы власти и формальные коллективные и индивидуальные предложения. Во-первых, для изучения целей дискуссионной кампании и ее политического механизма я использовала документы пленумов Коммунистической партии, материалы Центрального комитета и внутреннюю переписку лидеров. Во-вторых, я изучила материалы НКВД, который постоянно отслеживал политические настроения населения и регулярно направлял высшим партийным чиновникам секретные сводки. Эта внутренняя государственная документация дополняется данными британской и американской разведки для получения альтернативной внешней перспективы. В-третьих, я исследовала документацию организационного центра кампании Президиума Центрального исполнительного комитета (ЦИК), который составлял собственные сводки комментариев к конституции. Наконец, обзоры Комиссии ЦИК по делам культов о реакции верующих и духовенства на конституцию дополняют привлеченный массив государственных источников.
У каждого из этих государственных учреждений были свои собственные повестки дня и подходы к сбору и интерпретации информации, которые определяли структуру и характер обзоров. Такое разнообразие повесток дня дает историкам возможность сравнивать и объективизировать информацию, исходящую из различных органов и институтов. Привлеченные здесь материалы наблюдения (партийного, НКВД и военного) являются своеобразным историческим источником и требуют некоторых дополнительных комментариев. Так, при изучении сводок о настроениях и политической ситуации историки учитывают функции органов безопасности и специфику корпоративной культуры, которые оказали влияние на презентацию собранных данных. По словам Джона Маклафлина, бывшего директора Центрального разведывательного управления США, культура мира разведки характеризуется скептицизмом. Обязанностью аналитиков является поиск проблем и предупреждение правительства об опасностях. Это способствует более мрачному представлению событий в докладах[33]. Ф. Э. Дзержинский, основатель советской службы безопасности, отмечал аналогичную тенденцию в чекистских обзорах. Это и понятно, так как ЧК—ОГПУ—НКВД, в соответствии с охранительными и репрессивными функциями, в своих сводках общественных настроений уделяли основное внимание «негативным» процессам, антисоветской деятельности и инакомыслию. Секретари партийных организаций или партийные информаторы, сообщая о настроениях, не были столь репрессивны, не очень стремились к точности в именах авторов комментариев или их позиции, места службы и проживания. Напротив, НКВД в информационных материалах всегда указывал эти данные и дополнительно классифицировал высказывания людей по политическим направлениям: «троцкист-зиновьевец», «социалист-революционер» или кулак, хотя это не означает, что эти люди принадлежали к какой-то организации или были зажиточными крестьянами. Такие деноминации, как правило, представляют собой своего рода политические ярлыки, характеризующие идеальный тип врага в сознании составителя обзора. Характерной чертой материалов наблюдения была политизация, происходившая из задач каталогизации нелояльных лиц и отслеживания негативных тенденций. Репрессивная функция НКВД часто воплощалась в лаконичных пометках после изложения оппозиционных или недовольных комментариев: «Имярек арестован».
То, каким образом сводки представляют массовые настроения и политические суждения, характеризует специфику мышления офицеров НКВД, особое манихейское мировоззрение этой касты, склонной повсюду видеть угрозы, и типичное для всякого чиновника стремление продемонстрировать свою эффективность, соответствовать ожиданиям руководства или Сталина[34] и текущей партийной линии. Особого критического внимания исследователей требуют свидетельства о массовой фальсификации и фабрикации документов на всех уровнях делопроизводства ведомства, представленные историками, получившими доступ к региональным архивам советской службы безопасности – например, в Украине и Сибири, в том числе к агентурно-оперативным материалам. Один провокатор-агент, Николай Кузнецов, будучи арестован НКВД в 1934 году, показал, как он оставлял отчеты: «Даты, встречи, состав присутствующих – это неоспоримо верно, но там, где в моих донесениях начинаются чужие слова, заключенные в кавычках… <…> …Все наиболее резкое… являлось выдуманной, намотанной мной грубой ложью. Я здесь руководствовался одним, если человек не говорил против Сов[етской] власти, я ему ничего не выдумывал, но если этот человек настроен отрицательно к существующему строю и это мне в беседах высказывал, я ему приписывал неговоренное им… Приписки эти я делал, основываясь на своих предположениях»[35]. Новосибирский историк А. Г. Тепляков, указывая на «относительную степень достоверности чекистской информации», тем не менее подчеркивает, что многое проверяется и дополняется другими источниками, и признает соответствие действительности (в основном) по крайней мере отдельных видов информации. Понимая, что у сводок НКВД есть свои эпистемологические пределы, я пытаюсь их проверить и уравновесить их тенденциозность документацией альтернативного происхождения, среди прочего, разведывательными отчетами МИД Великобритании и американских спецслужб о положении в СССР.
В отличие от отчетов НКВД, сосредоточенных на негативных процессах, отчеты партийных, советских или экономических структур часто были склонны рисовать более позитивную картину общества, чтобы радовать власть репрезентацией успехов. Ответственным за продовольственное снабжение Ленинграда в 1932 году был партийный деятель П. А. Кулагин. Он говорил британскому консулу: «Мы не верим, как люди в Москве, что все хорошо». Если верить ему, продолжает консул, «многие чиновники посылают [наверх] положительную информацию, которая, как они знают, не соответствует действительности, потому что у них нет смелости сообщить правду; таким образом Кремль никогда не ведает, что происходит в реальности»[36]. Наилучшим решением при работе с тенденциозными или ненадежными источниками является проверка. Историки отслеживают, насколько их данные согласовываются с данными из других источников (триангуляция на языке разведки). Если различные источники, ситуации, ведомства и географические регионы дают сопоставимые данные, это говорит в пользу достоверности обсуждаемых фактов или распространенности того или иного мнения.
Другой государственный орган, Президиум ЦИК, организовывал и направлял дискуссию о проекте конституции и, пытаясь отследить широкий спектр и разнообразие мнений, требовал регулярной отчетности от местных должностных лиц о ходе кампании. Мониторинг общественных настроений был одной из целей кампании. ЦИК аккумулировал информацию из республик и регионов, газет и частных лиц. С июня по ноябрь 1936 года ЦИК обобщил и классифицировал 43 427 комментариев – около четверти дискуссионных материалов[37] – и составил 13 сводок и другой документации, включая статистические данные, которые я далее называю «оценками ЦИК». Эти статистические данные будут здесь представлены, хотя характер источников не позволяет с точностью оценить количественные параметры различных политических субкультур в обществе. Скорее, они показывают их качественное многообразие. Эти статистические данные, при всей их ограниченности и фрагментарности, придают некоторую рациональность моим впечатлениям, полученным от прочтения массива комментариев. В статистических оценках, в дополнение к данным ЦИК, я также ссылаюсь на свою выборку из 470 типовых комментариев, систематизированных и обобщенных Исполкомом Горьковского края в его отчете Москве 16 октября 1936 года на основе 4000 комментариев. Краевой исполком составил таблицу с комментариями к статьям конституции из различных районов[38]. Я также использую подсчеты предложений к конституции, сделанные Арчем Гетти по Ленинградской (2627 писем) и Смоленской (474 письма) областям[39]. К сожалению, Гетти не включил в свою выборку «непрограммные замечания вроде благодарности Сталину», в то время как я учитывала полный набор комментариев. Льюис Сигельбаум справедливо отмечал, что следует рассматривать весь комплекс комментариев – как практических, так и фантастических, – а не только те, которые имеют непосредственное отношение к статьям конституции[40]. Иногда я представляю абсолютные цифры комментариев на основе всех своих исследовательских записей, полученных из различных источников: НКВД, ЦИК, областные сводки, письма в газеты и т.д. Хотя и лишенные процентного соотношения, эти цифры часто говорят сами за себя.
Помимо НКВД и ЦИК, данные собирали и другие ведомства. Комиссия ЦИК по делам культов подготовила обзоры о реакции верующих и духовенства на конституцию. Чтение между строк этих докладов оставляет впечатление, что их авторы принимают и даже иногда защищают интересы этой группы. Вероятно, их недостаточно жесткая позиция привела к закрытию этой комиссии в 1938 году. Хотя ЦИК и Комиссия по делам культов преследовали свои собственные корпоративные цели, их сводки не имели репрессивной функции и звучали более беспристрастно, представляя как несогласие, так и позитивный дискурс. Советские газеты («Правда», «Крестьянская газета», «Известия», «Коммуна» (Воронеж), используемые здесь) регулярно публиковали хорошо отфильтрованные и, вероятно, отредактированные комментарии граждан, причесывая их в соответствии с политическими нормами, одновременно конфиденциально направляя в правительство обзоры неопубликованных комментариев[41]. Конфиденциальные списки вопросов из аудитории, записанных на собраниях и семинарах и предназначенных только для местного партийного комитета, с их простонародным языком, наивностью и резкостью, представляются более достоверными, чем типовые списки предложений, составленные в соответствии с неким шаблоном и возможно подчищенные чиновниками для представления в Москву. Значительная часть использованных источников исходила из государственных и партийных органов.
Обзоры, составленные официальными лицами, дополняются документами индивидуального происхождения: дневниками и письмами в газеты и органы власти, которые тоже необъективны, но подвержены влиянию других соображений и условий. Ученые, работающие с документами личного происхождения сталинской эпохи, знают, что их авторы очень часто проявляли неустойчивую идентичность в силу изменчивости их статуса и беспрерывных социальных потрясений: одни граждане уже с энтузиазмом усвоили официальные ценности и сделали их своими (Галина Штанге и авторы дневников, представленных Натальей Козловой), другие находились в процессе формирования своей идентичности (молодые авторы – Степан Подлубный, Леонид Потемкин, Нина Костерина, – а также бывший либерал Николай Устрялов); другие научились демонстрировать внешнее соответствие, публично подчинялись нормам, но скрывали свои воззрения или несогласие (Аржиловский, Маньков, Гинзбург, Шапорина, Пришвин). Такая подвижность идентичности серьезно осложняет работу аналитика их записей. У членов всех этих групп были свои причины для участия в обсуждении конституции, например, для демонстрации лояльности. Для дневников, однако, характерна аура интимности и искренности. В советской ситуации затяжного кризиса и переменчивой идентичности мотивация к самовыражению была гораздо сильнее, чем в политических режимах с давно устоявшейся системой ценностей. Более того, некоторые советские авторы дневников – молодые и даже зрелые (Потемкин, Подлубный, Г. Эфрон, Устрялов), – вдохновленные идеей Нового Человека и нового мира, сознаются в постоянных усилиях по преобразованию себя в составную часть воображаемого социалистического сообщества, часто жертвуя своей личной автономностью, воспринимаемой ими как «мелкобуржуазный» индивидуализм[42]. Эти психологические свидетельства «бегства от автономии», исследованные историками школы субъектности, придают эпистемологическую глубину массиву нелиберальных комментариев к конституции.
Среди использованных здесь источников – около двух тысяч интервью и опросов, осуществленных в 1950–1951 гг. среди советских беженцев в Европе и Америке, известные как Гарвардский проект, посвященный советской социальной системе. Среди вопросов, которые американские интервьюеры предложили беженцам, был: «Какое впечатление произвела на вас советская Конституция 1936 года?» Поэтому здесь можно найти множество интересных материалов. Мировоззрение и опыт этого контингента были шире и богаче, чем у их соотечественников в 1936 году. Все корреспонденты могли сравнить условия в СССР с европейским и/или американским опытом. Организаторы не могли игнорировать тот факт, что беженцы, вероятно, чувствовали себя обязанными перед страной, которая обещала или предоставила им убежище, и хотели угодить американцам и сказать то, что от них ожидается; поэтому в проекте были предприняты попытки учитывать такую «лесть» и возможную предвзятость. Кроме того, свидетельства беженцев дистанцированы от события (общенациональной дискуссии) и обогащены знаниями о его последствиях. Вместе с внешней перспективой это повлияло на часто критическое отношение беженцев к советской действительности, отмеченное исследователями. Однако нередки случаи, когда респонденты высказывали мнения вопреки политическому мейнстриму в США, например, восхваляя государственный контроль, социальную защиту и честно признавая, что они лично пользовались новыми свободами после 1936 года, например, когда дети кулаков получили доступ к образованию. Данные Гарвардского проекта позволяют сравнить динамику политических ориентаций в 1930-х и 1950-х годах.

