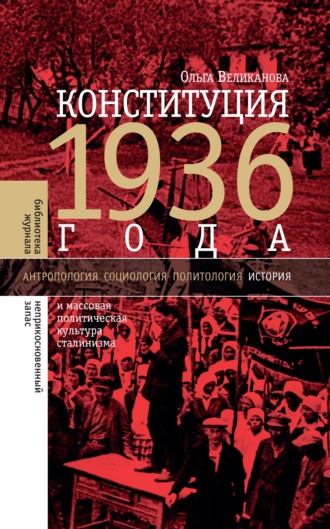
Полная версия
Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма

Ольга Великанова
Конституция 1936 года и массовая политическая культура сталинизма
Майе и Нилу
First published in English under the title Mass Political Culture Under Stalinism; Popular Discussion of the Soviet Constitution of 1936 by Olga Velikanova, edition 1
Copyright © Olga Velikanova, 2018
This edition has been translated and published under license from Springer Nature Switzerland AG.
Springer Nature Switzerland AG takes no responsibility and shall not be made liable for the accuracy of the translation
От автора
Во время многолетней работы над книгой я получала очень важную поддержку от моих друзей и коллег. Я благодарна архивистам Н. И. Абдулаевой в ГАРФе, И. Н. Селезневой и Г. В. Горской в РГАСПИ, Г. И. Лисовской в ЦГАИПД в Санкт-Петербурге, которые помогали мне в поиске материалов в архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Университет Северного Техаса, его исторический факультет и мои коллеги постоянно поддерживали мои исследования, предоставив несколько исследовательских грантов и отпуск для работы в архивах. Я сердечно благодарю коллег за то, что они сделали исторический факультет таким прекрасным местом для работы.
Я благодарна Институту Европейского Университета во Флоренции (Италия), который предоставил мне самые благоприятные условия для написания рукописи. Дискуссии со студентами и коллегами, особенно с Александром Эткиндом и Стивеном Смитом, помогли мне выработать аналитический подход к собранным материалам. Я никогда не работала так продуктивно, как в своем кабинете – в бывшей келье средневекового монастыря с видом на холмы Тосканы, которые вдохновляли меня при осмыслении материала и написании первых глав.
Мои размышления о политической культуре советского общества получили дополнительный импульс в беседах и интервью с историками Арсением Рогинским (общество «Мемориал», Москва) и Анатолием Разумовым (центр «Возвращенные имена», Санкт-Петербург). Для меня была большой честью возможность обсуждать самые разные вопросы политики и культуры с Сергеем Адамовичем Ковалевым – первым омбудсменом Российской Федерации и одним из авторов статьи о правах и свободах человека и гражданина в Конституции Российской Федерации. Я представляла некоторые темы этой книги на различных международных конференциях, таких как Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (США); Британская ассоциация славянских и восточноевропейских исследований (Кембридж, Великобритания); 24-я Международная конференция европеистов (Глазго); международные конференции Алексантери института (Хельсинки) и в нескольких университетах. Беседы и дискуссии с моими коллегами Кириллом Александровым, Клейтоном Блэком, Арчем Гетти, Ларсом Ли, Александром Лившиным, Самантой Лом, Игорем Орловым, Ричардом Саквой, Льюисом Сигельбаумом, Бенно Эннкер, Екатериной Шульман о различных аспектах исследования были крайне полезны и вдохновляющи. Я благодарна анонимным рецензентам, прочитавшим рукопись, за их ценные предложения и критические замечания.
Я хочу выразить также теплую благодарность тем, кто оказал мне дружескую или профессиональную помощь в различные моменты моей работы над книгой, особенно Людмиле Диллон и моему мужу, историку Михаилу Яковлеву, с которым я обсуждала все детали и аргументы исследования и который был первым читателем рукописи. Редакторы издательства были полны терпения и готовы помочь в любой момент.
Эта книга была бы невозможна без поддержки и интеллектуального импульса со стороны этих замечательных людей и институтов.
Автор и издатели благодарят Центральный государственный архив кино-фото-фонодокументов Санкт-Петербурга и Библиотеку Конгресса США за разрешение на воспроизведение архивных фотографий.
Глава 1
Введение
Когда в 1991 году Советский Союз неожиданно распался, весь мир внимательно наблюдал за происходящим, пытаясь угадать, что будет дальше. И внутри страны, и за пределами бывшего СССР многие надеялись, что после десятилетий истощавшего страну социализма вновь созданные государства устремятся к подлинной демократии и свободному рынку. Опросы, проведенные на территории России на заре постсоветской эпохи, давали социологам основания для оптимистичных прогнозов[1]. В последовавший затем бурный переходный период неоднозначное отношение бывших советских «подданных, вдруг превратившихся в граждан», к политике и выборам вызвало недоумение у наблюдателей и спровоцировало дискуссию о политических и культурных традициях нации и мере освоения ею демократической политической культуры. В 2000-е годы российские граждане выражали горячее одобрение действий своего президента, Владимира Путина, который, хотя и ассоциировался с экономическим ростом страны, проводил все более авторитарную политику, подавляя свободные СМИ и подчиняя себе судебную систему. К разочарованию российских либералов, высокий рейтинг этого бывшего офицера КГБ и его неоднократное переизбрание на пост главы государства указывали на политическую культуру, далекую от идеалов либеральной демократии. Согласно опросам, проведенным исследовательским проектом New Russia Barometer («Барометр новой России»), поддержка правящего режима выросла с 36–39 процентов в 1990-е годы до 84 процентов в 2000-е годы, отражая экономический рост, стремление к стабильности и, возможно, согласие с авторитарными тенденциями в политике[2].
Постепенно стало ясно, что эти противоречивые трансформации – не уникальное российское явление: аналогичные процессы наблюдались и в других странах. Перемены, происходившие в последние десятилетия ХХ века, открыли дорогу для демократизации, но развитие многих стран, где были заявлены демократические реформы, на практике явно не вписывалось в западную либеральную модель. И так произошло не только с большинством новых независимых государств постсоветского пространства: Российской Федерацией, Украиной, Беларусью, Казахстаном, Киргизией, Азербайджаном, Узбекистаном и Грузией. Многие другие развивающиеся страны – Венесуэла, Пакистан и большинство государств Африки – превратились в мнимые демократии, где выборы (краеугольный камень демократии) имеют место, но конституционные свободы, которые превозносятся в теории, в реальности попираются. Фарид Закария назвал этот феномен «нелиберальной демократией»; другие определяли его как «номинальный» конституционализм, «управляемую» демократию или состязательный авторитаризм. Да, выборы происходят, но население слишком часто голосует за антилиберальный курс и авторитарных политиков, формирующих режим со слабой законодательной и судебной властью, который постепенно мутирует в диктатуру. Этот тревожный процесс вновь вызвал интерес к вопросу, что определяет поведение граждан и их поддержку авторитарных или нелиберальных режимов.
В различных обстоятельствах человеческое поведение и направление социальных преобразований определяются множеством взаимосвязанных факторов: экономических (как на индивидуальном, так и системном уровне), политических, культурных и демографических («молодежный навес»)[3]. Люсьен Пай, сторонник теории модернизации, отмечал ее раскрепощающее влияние (результат урбанизации, роста образования и мобильности, развития технологий) как дополнительный фактор, определяющий траекторию перемен на фоне авторитарного режима[4]. Другие исследователи указывали на то, что скорость, с какой в России произошла модернизация, и катастрофические события ХХ столетия могли создать неблагоприятные условия для выбора в пользу демократии. Все русские революции – 1905, 1917 и 1991 годов – совершались во имя модернизации и демократии, но складывающиеся в результате режимы упорно тяготели к авторитаризму. Поэтому ученым и образованной публике остается лишь размышлять, существуют ли в России культурные условия для успешной демократизации или ей внутренне присуща склонность к авторитарному режиму. Можно ли сказать, что российская политическая культура по сути своей невосприимчива к демократическим институтам? Или же советский проект модернизации, даже в его авторитарной форме, не мог не создать условий для демократизации и плюрализма, которые воздействуют и на настроения общества? Приводимый в этой книге исторический анализ мнений советских людей в 1930-е годы, которые характеризуют массовую политическую культуру того времени, призван помочь найти ответы на эти вопросы.
Понятие политической культуры служит здесь инструментом для объяснения политического поведения масс. «Международная энциклопедия социальных наук» определяет политическую культуру как «совокупность мнений, убеждений и настроений, которые придают смысл политическому процессу, и формируют предпосылки и правила, обусловливающие поведение в политической системе». О политической культуре партийной элиты, в особенности Сталина, написано немало, прежде всего потому, что подобные исследования имеют практическое применение в международных отношениях и дипломатии, а используемые источники легко доступны (например, публичные заявления)[5]. Обычно считается, что культура партийной элиты уходила корнями в опыт ее подпольной деятельности и гражданской войны с такими присущими ей чертами, как черно-белая картина мира, догматизм и стремление принимать желаемое за действительное, воинственность и отказ от компромиссов, – это была культура, подточенная страхом и подозрительностью, когда постоянно мерещились внутренние и внешние заговоры и враги[6]. Теперь же благодаря доступности корпуса новых источников стало возможным изучение массовой политической культуры сталинизма – не столько на уровне обобщений, а как конкретной системы взглядов, относящихся к конкретному временному периоду и нашедших отражение в документальных свидетельствах.
Интерес к умонастроениям и политическим предпочтениям советских граждан и предполагаемым трудностям перехода к демократии зародился в 1970-е годы и по понятным причинам возрос в 1990-е. Но этот интерес едва ли можно назвать новым. Маргарет Мид, например, изучала мировоззрение советских граждан в 1950-е годы, опираясь на методы антропологии, и пришла к выводу, что оно соответствует авторитарному строю. С момента выхода ее работы историки разделились на два основных лагеря. Одни полагают, что российская политическая культура в значительной мере тяготеет к авторитаризму и плохо подготовлена к развитию по демократической и либеральной модели, потому что исторические обстоятельства не дали возможности народу полюбить свободу, коллективное в России принято ставить выше личного, а к частной собственности относятся неприязненно[7]. Сосредоточившись в основном на политической культуре элиты и правительства, эти сторонники исторического и культурного детерминизма подчеркивали предрасположенность россиян к авторитарному режиму, хотя иногда подобную позицию можно было назвать политически предвзятой.
Приверженцы другой точки зрения указывают на многогранность русской национальной традиции, потенциальную открытость культурной сферы различным влияниям, развенчивая теорию о предопределенности авторитаризма. Ричард Саква, Николай Петро и Джеймс Миллар[8] полагают, что модернизация сама по себе естественно порождает новые силы и новые настроения, иногда даже в вымирающих социальных слоях, таких как дворянство или крестьянство. Общества развиваются, хотя и неравномерно и с разной скоростью. Даже в реакционные и застойные периоды существует демократический потенциал, как это было, например, в 1840-е годы – «замечательное десятилетие», когда, несмотря на полицейский режим Николая I, возникла русская интеллигенция. Достигнув своего пика в начале ХХ столетия, неофициальная гражданская культура продолжала жить даже в СССР, выражаясь в сопротивлении режиму, диссидентском движении, религиозном противостоянии, самиздате (нелегальном издании и распространении запрещенной литературы), субкультуре слухов и анекдотов, полуподпольной благотворительности, авторской песне и туристском движении 1970-х годов.
Исследователи указывают на проблему, нередко возникающую при изучении политической культуры, когда из прошлого и культуры отбираются произвольные факты, чтобы прийти к заранее заданным выводам, а специфика конкретного исторического периода игнорируется. Цель данного исследования советской политической культуры – методически проанализировать корпус архивных источников, которые никогда ранее не рассматривались сквозь призму политической культуры, и поместить высказывания и мнения обычных людей о конституции в политический, экономический, культурный и социальный контекст 1930-х годов. Массовую политическую культуру 1930-х годов теперь можно рассматривать с опорой на документальные источники на новом уровне исторического, культурного и методологического знания.
Авторы исследований, посвященных русско-советскому обществу в конкретные периоды его истории, например, в начале (Файджес и Колоницкий) и в конце (Роуз, Лукин) советской эры, отмечали слабый потенциал для либеральной демократии в политической культуре. Медушевский и Левин придерживаются такой же точки зрения в отношении сталинской эпохи.
Орландо Файджес и Борис Колоницкий, проанализировав политическую символику и риторику рабочих и крестьян в 1917 году, пришли к выводу, что «для либерального понимания демократии в России не была по-настоящему подготовлена культурная или социальная почва, по крайней мере – не в разгар революции». Если либерально настроенная интеллигенция, говоря о демократии, подразумевала конституцию, парламент и власть закона, рабочие и городские обыватели видели в ней скорее синоним власти простого народа. Во время споров в обществе о демократии в 1917 году, в противовес интеграционному смыслу демократии для либералов, массы скорее видели в ней идею исключения – идею классовой борьбы. Авторы полагают, что дискурс исключения и противостояния в обществе, который они исследовали в революционном 1917 году, глубоко укоренен в русской культуре[9].
Утверждение, что сталинская политическая культура уходила корнями в традиционалистскую культуру русского крестьянства, принимается многими как данность. Моше Левин указывал не только на религиозно-автократические традиции, наложившие отпечаток на отношения между обществом и государством в новой сталинской автократии, но и на влияние деревенской религиозности на государство, каким бы светским и рационалистическим оно себя ни позиционировало. Откликаясь на происходившие вокруг кардинальные изменения, крестьянское большинство преобразовывало и приспосабливало инструкции, пропаганду, моду и образы, пропуская их через своеобразные культурные фильтры. Влияние традиционного крестьянского мира, которое Левин называет консервативной силой, сформировало облик государства: «Социальная матрица могла породить только одно – авторитаризм». Исторические традиции отношений между государством и обществом в сочетании с однородным, замкнутым на общину, безграмотным или полуграмотным крестьянством, а также «откат 1917–1921 годов», ослабивший социальный фундамент (крестьяне вернулись к более архаичному укладу, а рабочий класс потерял «свои наиболее опытные и прогрессивные слои»), создали в России благоприятные для авторитаризма условия. Волны кризисов принесли с собой утрату ориентиров, обезличивание и потерю идентичности; большевистское окультуривание подорвало уже существующую культуру (сужая культурную элиту) и создало культурный «вакуум», когда крестьяне лишились прежних ценностей, но еще не успели приобрести новые[10]. Недавние работы о Всероссийском крестьянском союзе, движении первой трети ХХ века, позволяют поспорить с последним утверждением Левина относительно однородности и косности крестьянства: это движение свидетельствовало о политическом и социальном взрослении крестьянства, очевидном среди наиболее предприимчивых его представителей[11]. На это распространение буржуазных и гражданских ценностей в крестьянской среде нельзя закрывать глаза. Две возникшие в результате политические культуры – традиционная и большевистская, если следовать теории Левина, – теперь представляются более многогранными. Сложное и нелинейное развитие нового самосознания ярко отразилось в дневниках бывших крестьян, ставших рабочими, в частности, Андрея Аржиловского.
Так как политическая культура – продукт одновременно коллективной истории и истории жизни отдельных людей, личный опыт, описанный в дневниках и частной переписке, обогащает наши представления об этой культуре. Споры в литературе о либеральном и нелиберальном субъекте[12] в СССР привлекли внимание к личному измерению и роли биографического времени в становлении советской политической культуры. Хотя понятие политической культуры подразумевает изучение масс, социальных групп и коллективной идентичности, культурные тенденции современной исторической науки и ставшие доступными многочисленные источники личного происхождения побуждают к исследованию индивидуальной субъектности. Формирование субъектности (автономной рефлексирующей личности) и поиск идентичности осуществлялись, с одной стороны, индивидуумами, с другой – продвигались государственным проектом «нового советского человека». Дневники показывают, как параллельно динамике изменений в культуре и обществе развертывалась и актуализировалась личность, показывают процесс осмысления и освоения сталинистских ценностей, который иногда приводил к дрейфу либеральной личности к нелиберальному гражданину, как произошло с Николаем Устряловым. В какой-то конкретный момент – например, в дискуссии о конституции, – эти социальные и индивидуальные траектории пересекались и порождали различные мнения. В таких случаях конституция была критерием, с которым люди сверялись и на основе которого выстраивали свою идентичность. Некоторые исследователи, в частности Шейла Фицпатрик, обнаружили в Советском Союзе 1930-х годов либерального советского субъекта – рациональных акторов, хорошо осознающих свои интересы и конкурировавших друг с другом за возможность устроить свою жизнь. Другие, в том числе Йохен Хелльбек и Анна Крылова, полагают, что либеральный дискурс культурно чужд СССР, а социалистический субъект, как правило, антилиберален, не заинтересован в индивидуальной свободе и не уважает частные интересы. Исследования политической культуры и советской субъектности дополняют и обогащают друг друга.
Вызывающая много споров дихотомия советской жизни и двойственность советского субъекта непосредственно связаны с темой этой книги. Эту двойственность отмечали многие авторы: официальная идеология и народные верования, политические освободительные идеалы и действующие на практике дискриминационные нормы, намерения правительства и их воплощение с неожиданными последствиями на практике, демократические элементы политической культуры и авторитарно-патриархальные элементы. Все авторы предлагают разные трактовки. Ценный вклад в эту дискуссию внесли Майкл Дэвид-Фокс и Андрей Медушевский: мы можем лучше понять несоответствия между конституционными нормами и реальностью диктатуры, если рассмотрим их в контексте исторического развития конституционализма в России ХХ века. Медушевский указывает на неизменность фиктивного характера конституционализма на протяжении всего столетия: в Основном государственном законе 1906 года, советских конституциях 1918, 1924, 1936, 1977 годов и в конституции 1993 года. Вслед за Максом Вебером он говорит о фальшивой природе реформы 1906 года, воплощенной в Государственной думе; иллюзорность реформы Вебер рассматривает скорее как следствие сложных обстоятельств и незаинтересованности социальных акторов в либерализме, чем как признак того, что русский народ «не созрел для конституционного правления»[13]. Советский конституционализм с его расхождениями между декларацией и практикой был продолжением предшествовавшей ему фиктивной модели. Медушевский определяет советскую демократию как номинальный конституционализм, введенный с целью замаскировать диктатуру пропагандой, а не для укрепления правовых основ. Он объясняет это устоявшейся моделью отношений между обществом и государством, которой внутренне присуще «отрицание закона как такового… для регулировании этих отношений» и давлением со стороны традиционалистской социальной среды. Сосредоточиваясь прежде всего на политических факторах, Медушевский тем не менее признает важную роль культуры с ее переплетением современных и традиционных элементов. Поэтому он определяет сталинизм как «своеобразную форму тоталитаризма, развивающегося и функционирующего в условиях модернизации и основанного на традиционных элементах российской монархической политической культуры»[14].
Книга Дэвида-Фокса обогащает дискуссию о дихотомии советской жизни с элементами модерности и неотрадиционализма в СССР, выдвигая тезис о соединении в советском строе как модерных, так и других элементов: традиционных, специфически российских, или нелиберальных[15]. После архивной революции, когда открылся доступ к документам с голосами масс, обнаружилась проблема непрямолинейного или искаженного восприятия официальной доктрины в обществе. Вслед за Фицпатрик, Суни и Виолой Дэвид-Фокс подчеркивает необходимость отличать уровень государственных намерений с тенденцией к гиперпланированию от неожиданных последствий и неконтролируемого хаоса на местах, которые возникают при реализации этих намерений. Для моей книги особенно эвристична сформулированная им и Евгением Добренко[16] концепция обрядового и театрального характера презентации и потребления идеологии, когда граждане внешне демонстрируют «хорошее поведение», при этом пренебрегая ее смыслом и содержанием, что перекликается со взглядами историков на характер принятия населением христианства на Руси. Алексей Юрчак полагает, что этот разрыв между репрезентацией и содержанием идеологии сильно увеличился в позднем послесталинском социализме[17]. Тем не менее, как я покажу далее, в 1930-е годы идеологическое послание конституции, помимо ритуальных внешних реакций у многих аплодировавших на митингах, все-таки было усвоено значительной частью участников дискуссии. Это особенно верно в отношении нового советского поколения, которое в силу молодости еще не прошло через циклы обманутых надежд. Многие из советских патриотов, особенно бенефициары, первоначально искренне поверили в конституцию и серьезно обсуждали ее содержание – демократию.
В социологических исследованиях, западных и российских, оценивается отношение российских граждан к демократии в 1990-е и 2000-е годы, которое может служить ориентиром при изучении политической культуры 1930-х годов. В отличие от использованных мною источников и методов их интерпретации, социология оперирует количественными данными. Один из наиболее репрезентативных опросов был начат в 1992 году Ричардом Роузом и его британскими коллегами и продолжался на протяжении двадцати лет. Проект «Барометр новой России» зафиксировал разочарование, вызванное несбывшимися надеждами на демократизацию, и инерцию авторитаризма в постсоветской России. Пример России характерен с точки зрения третьей волны демократизации, когда введение конкурентных выборов в разных странах выливалось в переход к гибридным режимам, которые в разных контекстах и в разное время определялись как номинальная, мнимая, нелиберальная или тоталитарная демократия. Роуз напоминает, что легитимный режим необязательно демократичен. Если же поддержка режима обеспечивается давлением, политическое равновесие между обществом и государством достигается уступками, покорным принятием или показным одобрением, а в перспективе ведет к возрастающему безразличию к политике, недоверию и оппозиционным настроениям. Разумеется, общество может поддерживать демократическую или недемократическую систему. Как показывают социологические опросы, несмотря на то, что «подавляющее большинство россиян считают демократию идеалом», они выражают все более явное одобрение недемократическим политическим практикам Путина в той же или в большей мере, что европейцы, поддерживающие демократические режимы в Центральной и Восточной Европе[18]. Вопрос, как широкая публика и российские «демократы»[19] представляют себе демократию, – тема продолжающихся исследований.
Таким образом, среди исследователей преобладает взгляд, что массовая политическая культура в России недостаточно восприимчива к либеральным ценностям.
***В июне 1936 года проект новой советской конституции был опубликован для общественного обсуждения. Он объявил, что СССР приближается к неантагонистическому социалистическому обществу, и, соответственно, снял ограничения на право голоса и ввел всеобщее избирательное право, тайное голосование, разделение властей, открытый судебный процесс и право обвиняемых на защиту. Конституция провозгласила свободу печати, собраний и неприкосновенность личности, жилища и переписки. В связи с прежней приверженностью большевиков к классовой борьбе этот демократический импульс стал неожиданным поворотом в официальной партийной линии, который вызвал различные комментарии в санкционированной государством общенациональной дискуссии, которые составляют главную источниковую базу этой книги. В ней я анализирую и интерпретирую политические ценности и убеждения, выраженные в ходе кампании обсуждения и за ее пределами.

