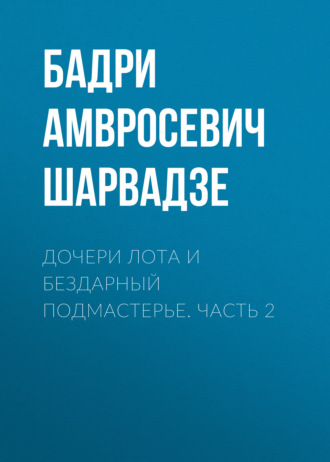
Полная версия
Дочери Лота и бездарный подмастерье. Часть 2
То, что жен мы приискиваем себе из примерных дочерей, об этом, думаю, можно не распространяться. Не знаю, как вы отнесетесь к моему мнению, но мне кажется, что мужчина больше всего жаждет иметь такую жену, которая передала бы свои человеческие качества дочери.
– Это тоже очевидно, – перебил Корбана Анубис.
– Может быть. Я хочу сказать, что мужчина, желая подобрать себе жену, ищет что-то несуществующее, что через приобщение к нему должно стать существующим. Поэтому, на женщину, которая могла бы стать его женой, он смотрит глазами сперва отца, как на дочь, потом сына, как на мать, далее брата, как на сестру и уже в конце глазами мужчины, как на женщину.
Короче, он видит в ней дочь, превращающуюся в мать, затем в сестру, которая уже после этого оправдает его надежды как жена. Можно видеть сестру, дочь и мать в жене и иначе, но никак нельзя вовсе не видеть их в ней.
Что же касается дочери, то после всего сказанного не связывать ее образ с образами матери, сестры и жены было бы и противоразумно и невозможно. Так что, думаю, у меня есть свои особые основания присоединиться к тосту нашего Лота, что я незамедлительно и сделаю.
Лот разлил вино из кувшина в чаши в той же последовательности, что и прежде. Чем больше времени проводили они за столом и чем больше нарастала опасность, что им помешают, тем больше жаждал он продлить хотя бы на немного беседу с Ангелами.
IV
– Анубис, думаю, я честно отдал дань лакомству и не потревожил вас своей нетерпеливостью во время прекрасного тоста нашего Лота. Теперь, надеюсь, мне позволено будет возвратиться к моему вопросу о большей тяге отцов к дочерям, – начал Корбан еще до того, как Лот наполнил его чашу.
– Честно говоря, мне показалось, что ты уже высказался по этому поводу, – заметил Анубис, – но если ты так не считаешь, то я с удовольствием послушаю тебя, причем с тем большим удовольствием, чем более неприемлемой для меня окажется твоя точка зрения.
– С чего бы это? – улыбаясь, спросил Корбан.
– Только в таком случае перепроверяется моя точка зрения и появляется надежда на то, что я смогу убедиться в своей правоте.
– За это я не ручаюсь, и уверен, что и ты не взыщешь с меня строго. В одном ты прав, держа речь, я не мог не предполагать то, о чем уже начал говорить прежде и о чем мне еще предстоит кое-что сказать. Итак, о дочери прежде всего можно сказать, что в ней одной могут быть сосредоточены прошлое, настоящее и будущее ее отца. Прошлое – поскольку оно создано общением с матерью и сестрой, настоящее – поскольку оно живет в общении с женой, и будущее – поскольку оно за дочерью, хотя бы только во временном отношении.
– Извини, Корбан, что перебиваю, но по этому признаку дочь оказывается ничуть не в лучшем положении, чем сын, который в не меньшей, если не в большей степени несет в себе три измерения времени, обусловленные опытами общения отца со своим отцом, со своим братом и отношения к себе и к своему сыну, – возразил Анубис.
– Ты прав, Анубис. Если ограничиться только тем, что я сказал, так и получится. Но это только начало. Да, и удивительно было бы, если бы начало не включало в себя нечто общее между сестрой и братом, как детьми одних и тех же родителей. Твое замечание хорошо и тем, что вовремя напомнило мне о неизбежности постоянного, шаг за шагом, сравнения положений и отношений к дочери и сыну. Но пора и продолжить.
Дочь, в некоторой мере, должна иметь черты собственной матери и матери своего отца. Имеет ли смысл вопрос о том, какие их черты сплавляются в ней и как это может происходить, поскольку воспитание, или же, другими словами, не только ее телесное образование, подвержено целенаправленному влиянию на нее отца?
Так как этот вопрос мне представляется чрезвычайно сложным, я с самого начала хо чу высказать заключение в общих чертах, а потом уже, если Бог даст, постараюсь обосновать его. Итак, в дочери отец хочет видеть прежде всего, можно сказать, сплав и органическое соединение черт матери и жены. Я намеренно не говорю “лучших черт”, потому, что это может привести к недоразумениям. Лишь прояснив это, можно приблизиться к пониманию слабости отца к дочери.
V
Образ матери, – продолжал Корбан, – является первым и по ряду и по значению женским образом для будущего отца. Я думаю, закрепление в его сознании всех других женских образов – от бабушек, нянек, подружек детских игр до сестер и первых возлюбленных – не столько теснит ее образ, сколько составляет фон для него, фон для более глубокого проникновения.
Но мать – не только его мать, она и жена отца, связь которого с ней, включающая, естественно, не только половую связь, замкнута в себе настолько, что несет в себе для будущего отца многие жизненно важные тайны, среди которых тайна его рождения лишь одна из множества.
Как бы ни был сын проникнут стремлением найти все благородные черты матери в будущей жене и их положительным утверждением в ней, совмещение отрицания с положительным содержанием неизбежно.
Естественное сношение между мужем и женой наносит первый серьезный удар тайне, уже занявшей к тому времени свое место в сознании мужа. Этот удар необходим, но, конечно, недостаточен для ее разгадки.
– Почему связь между мужем и женой не может совмещать положительный образ матери и такой же образ жены? – спросил Анубис и добавил: – Ко времени полового созревания образ матери давно уже должен был бы определиться, и пробуждающиеся в человеке новые силы подвигают его к формированию другого образа, отличающегося, но не противополагающегося образу матери. Короче говоря, почему образ жены является отрицанием образа матери?
– В отношениях с женой отрицается невозможность половой связи. В этом и только в этом
смысле образ жены отрицателен по отношению к образу матери.
– Но, дорогой Корбан! Как ты ни стараешься представить половую связь или ее отсутствие лишь одним из определяющих факторов в возникновении образов близких человеку женщин, она предстает у тебя единственно определяющей.
– Ты прав! Не так легко избавиться от общераспространенного предрассудка, что познавать – значит в первую очередь вступать в половую связь.
– Предрассудок ли это ?! – скорее для себя, чем в виде вопроса, произнес Лот.
– И я часто вынужден под гнетом обстоятельств признать, что мысль – раба чувств. И не остается ничего иного, как присовокупить к этому, что так и должно быть, – как бы ответил на слова Лота Анубис.
– Нет, друзья. Так вы меня совсем собьете с пути. Мне уже приходится делать усилия, чтобы восстановить нить рассуждения, – полушутя попытался было усмирить разошедшихся слушателей Корбан.
– Знаю я тебя, Корбан! Лучше не прикидывайся простаком. И без этого я слушаю тебя с предельным вниманием и эти передышки необходимы мне именно для того, чтобы не потерять нить твоей мысли, развертываемой поступательно, – выпалил Анубис.
– Если так, то нам придется согласиться с тем, – продолжал Корбан, – что приобретение чего-го нового в опыте отношений с женой происходит не без соответствующей потери в образе матери. Частичное раскрытие тайны – это потеря, и довольно существенная, если на ней держался образ. С рождением дочери эта тайна почти полностью раскрывается, но исчезающему значению “почти” вновь препятствует запрет на связь с дочерью, и ее непознаваемость и недосягаемость открывают новую главу в опыте человека, который вынужден найти место и им.
– Я думаю, – заговорил Лот, – вы могли бы опереться в своих характеристиках матери, жены и дочери и на то, что человек не выбирает себе мать. Жену, можно сказать, выбирает, а в отношении дочери, если вообще есть смысл говорить о степени выбора, свобода выбора совмещается с неустранимой безучастностью к нему. Дочерей мы не выбираем, мы их имеем. – Такой взгляд мне ближе.
– Дорогой Лот, а как быть в том случае, когда в дочерях начинают проявляться черты, которые противоположны тем чертам ее матери, по противоположности которых чертам ее бабушки мать привлекла отца к себе, т.е. когда дочь отрицает выбор отца? – спросил Анубис.
– Извините, мне не удалось проследить за вашей мыслью, – сказал Лот.
– Уж извинять надо меня за неуклюжую форму вопроса, – поспешил выправить положение Анубис. – Думаю, ты не будешь отрицать, что различие в отношениях с матерью и женой зиждется не только на отсутствии половой связи с одной и наличии ее с другой, но и на противоположности их некоторых душевных свойств. Будущий отец может желать, чтобы свойства жены отличались от свойств матери даже в слу чае полного преклонения перед ними обеими, и не только потому, что его отношения с женой имеют характер, отличный от его отношения к матери, но и, скажем, потому, что человеку свойственно избегать повторений там, и всякий раз, где и когда это возможно.
Но, конечно, может быть и так, что сыну не по душе наиболее бросающиеся в глаза черты матери и тогда реакцией на его видение будет выбор жены с противоположными чертами. Допустим, что так и происходит в предполагаемом случае. Тогда дочь, чувствуя искусственность добродетели, распространяющейся от матери на нее, может восстать против нее, т.е. поступить так, как уже поступил ее отец по отношению к своей матери, но реализовать свой протест не на ком-то другом, а на себе – тем, что она будет стремиться не походить на мать, жену своего отца.
Не получится ли в таком случае, что дочь, непосредственно используя отцовский опыт, обретет черты, прямо противоположные его намерениям? Короче говоря, как быть в том случае, когда дочь становится похожей на мать отца теми чертами, которые были неприемлемы для отца и действительно подверглись отрицанию при выборе жены ?"
Корбан испытующе взглянул на Лота. Чувствовалось, что ему хотелось ответить Анубису, но это следовало сделать после Лота. Лот понял в чем дело.
– Я думаю, как ни важен и интересен этот вопрос, как выражение действитель ных видоизменений обсуждаемого отношения, отклонений от него удобнее будет коснуться после того, как Корбан даст положительный ответ на поставленный вначале вопрос. После этого нам легче будет определить свои позиции и обозреть другие интересующие нас случаи.
– Я хотел ответить Анубису, но мне остается поблагодарить Лота. Спасибо, Лот. Но и Анубиса я благодарю за напоминание о том, с какой сложной темой мы столкнулись. Думаю, перед очередными рас суждениями неплохо было бы немного подкрепиться."
Пожелание Корбана было сочтено уместным, и сотрапезники молча принялись за еду. Излишне было бы добавлять, что каждый напряженно обдумывал сказанное и готовился отстаивать свое мнение.
==============================================
==============================================
VI
Собирая исписанные с утра листки, просматриваемые им по мере написания каждой очередной главы, Подмастерье знал, что превысил положенную норму занятий. Еще раньше он смирился с тем, что ни на что другое в этот день у него не будет времени и сил, и даже с тем, что такие дни повторятся не раз до окончания истории Лота. Неудовлетворенность написанным воспринималась им как должное, и он не терзал себя этим.
Гораздо больше его занимала мысль о том, что отвлеченные рассуждения Лота и его гостей окажутся слишком трудными для понимания, и Аколазия может не усвоить их. Становясь на ее место, можно было отметить, что подобное внезапное усложнение повествования не было подготовлено, и не соответствовало духу эпохи, в которую происходили описываемые события.
Последнее мнение Подмастерье сразу отбросил, ибо его осенила и сразила мысль, что скорее та эпоха, в которую он жил, не дотягивала по сложности и полноте до той, которой приходилось касаться в вымысле. Что касается внезапности и скачкообразности усложнения ткани повествования, он быстро утешил себя и по первому, и по второму пункту, прибегнув к грубой аналогии с внезапным романом Аколазии на стороне, который, судя по тому, что за первую половину дня никто из клиентов не появился, действительно начинал усложнять ее жизнь, и, если бы это продолжалось, очень скоро напомнил бы о себе с малоприятной стороны и дома.
И напоследок, с него довольно было того, что он постоянно перегибал палку в упрощении древнегреческой философии. Пора было Аколазии привыкать к усложнению мифов!
Он вспомнил, что дверью подъезда уже хлопнули, и, значит, с переносом очередной порции истории в залу можно было не спешить. Прибрав стол, положив Библию на свое место в нижнем отделении письменного стола, с закрывающейся на ключ дверцей, проверив себя, запомнил ли излишек времени занятий, который всегда засчитывался в занятия на следующий день, он вышел из комнаты с листками в руках и положил их в условленное место.
Возвратившись к себе, он стал одеваться для обычной дневной прогулки. Внимательно рассматривая летние брюки, вид которых оставлял желать лучшего, поскольку они более десяти лет прикрывали положенные части тела, Подмастерье услышал из залы хорошо знакомый скрип открывающейся двери. “Они дома? Но я хорошо помню, как хлопнула дверь!”, подумал он.
Поспешно одевшись, он вновь оказался на только что покинутом мес те в зале, и, заметив, что листки исчезли, громко окликнул:
– Аколазия, ты дома?
Дверь открылась, и выглянула Детерима.
– Аколазия с Гвальдрином уже ушли, – ответила она.
– Я думал, что и вы пошли с ними. Я слышал, как ушла Аколазия.
– Мне захотелось побыть сегодня дома. А назавтра я намечаю первый самостоятельный выход в город.
– А рукопись…
– Мы читали вчера вслух.
– И как, нравится?
– Рано судить, мы же еще только в начале.
– Вы нашли очень удачную форму сказать, что история в моем исполнении вам не нравится.
– Я этого не говорила.
– Это не столь важно. Вы по-прежнему хотите оставаться в роли зрительницы?
– А что вы мне предлагаете?
– Постепенно преобразовываться в участницу. Начинать хотя бы с малых ролей, а потом публика сама потребует вас на главные.
– Мы уже говорили об этом. Я не разделяю пристрастия Аколазии. И не только не уча ствую в ее игре, но, можно сказать, даже не наблюдаю за ней.
– Вот это характер! Значит, у вас свои, более интересные игры.
– С детства терпеть не могла играть. С какой стати мне увлекаться ими сейчас?
– Детерима, не лукавьте. Каждый человек ведет свою игру; иначе не бывает.
– Я не верю, что понятие игры распространяется на всех без исключения и на все, что происходит в жизни.
– Сдаюсь, но хочу вам сказать, что для игры достаточно чувствовать и действовать, даже соображать необязательно.
– Вот это да! Получается, что я играю, не соображая!
– Я этого не говорил, и не думал. Хотя, что греха таить, если бы мне пришлось охарактеризовать ваше отношение к нашему делу, извиняюсь, к нашей игре, в театральных терминах, лучше я бы не выразился.
– Это почти комплимент!
– Почти.
– А какую роль играете вы?
– Небольшую, но необходимую. Я что-то вроде рабочего сцены.
– И только? Но это не роль!
– По совместительству я еще расклеиваю афиши, заведую кассой, иногда составляю репертуар, исполняю функцию билетерши. Не достаточно ли для одного человека?
– Нет, даже если бы вы были дирижером оркестра.
– Да! Вы прибрали инициативу к рукам и теперь наступаете по всему фронту."
Детерима улыбнулась.
– Так что не вам упрекать меня в равнодушии к игре. Не быть артисткой и не иметь роли – вполне естественно…
– А быть, или называться, артистом и сидеть без роли – это, это … – Подмастерье запнулся. – Так что же это такое по-вашему?
– Это тунеядство, – отрезала Детерима.
– Я тунеядец? А знаете ли вы, что за последние годы я не помню ни одного дня, когда бы не вкалывал, да что там за последние годы – за всю свою сознательную жизнь. Разве что болел и не было сил подняться с постели.
– Это другие игры. Я имела в виду ваше “общее дело” – игру с Аколазией."
Подмастерье задумался. Уже несколько минут он готовился спросить Детериму о чем-то таком, что вылетело у него из головы. Напряжение внимания принесло свои плоды.
– Вы говорили это Аколазии?
– Да. И не раз. Еще до того, как прилетела сюда.
– А она что?
– Спросите лучше у нее.
– И все же?
– Она вас жалеет.
– Жалеет?! За что?
– Мы думаем, что вы сумасшедший.
– Как, полностью?
– Нет, частично, – улыбнулась Детерима.
– И на том спасибо. Вы представляете, какое сердце надо иметь, чтобы вынести все то, что вы мне только что наговорили?
– Не преувеличивайте. То, что я сказала, вам известно лучше меня, и, во всяком случае, более давно.
– Детерима, вы великолепны. Думаю, пора подвести итоги. Итак, я – немного сумасшедствующий тунеядец.
– Это вас огорчает?
– Если я скажу, что доставляет удовольствие, разве вы поверите?
– Почему же нет! Я доверчивая по натуре.
“Но хотя бы добрый?” хотел спросить он, но передумал, ибо сумасшедшие тунеядцы добрыми быть не могут.
– Спасибо! Вы меня … вы меня …
– Развлекла?
– Нет… да!
– Вы не опаздываете с выходом?
– Да, конечно. Я бегу, – и Подмастерье, действительно, поспешил к выходу.
VII
“Наконец-то я понял, чего могу хотеть от нее! Ничего не скажешь, помогла мне, и даже очень. И поблагодарил я ее не напрасно”, думал про себя Подмастерье, не делая попыток прийти в себя после разговора с Детеримой. “Вот теперь и впрямь передо мной стоит задача познать ее, познать в ветхозаветном смысле! Но мое намерение познать ее ничем не отличается от мщения. Но, черт возьми, что общего между познанием и мщением?
Значение “мстить” кажется более ясным, чем значение “познавать”. Что значит “мстить”? Это значит воздавать должное. А что значит “познавать”? Это значит получать должное. Воздавание может в некотором существенном смысле совпадать с получением, и именно в этом смысле познание совпадает с мщением”, разрешил он как попало свои сомнения.
“Ну, конечно. Совсем просто; поиметь – вот что объединяет два различных действия: познать и отомстить. Познать – значит заполучить и иметь то, что приобретается в процессе познания; отомстить – значит приобрести и получить успокоение, также приобретаемое в процессе познания, к которому приобщается мстящее лицо”.
И вот мысли Мохтериона перенесли его к тому воображаемому времени, когда справедливость восторжествует и Детерима будет проучена за свою дерзость. Первые представления о ее познанном, доступном для обследования обнаженном теле принесли радость, которая, однако, вскоре испарилась, не успев смягчить сердце. Приобщение к этому акту и Аколазии представлялось столь же неизбежным, сколь и необходимым, но мщение в виде познания в ее случае было невозможно.
Требовалось найти другой выход, который не замедлил представиться по аналогии с расправой над Детеримой. Вместо обычной формы платы за квартиру, принятой для Аколазии, он потребует наличные, как было обговорено в самом начале. С ее заработками, с ее кругом знакомств и ее поклонником, из-за которого она покидала дом по вечерам, она не очень пострадает от готовящейся перемены. Только продумав подробности подобного обращения с Аколазией, Подмастерье почувствовал, что ожесточение сердца не омрачает его радость и он сможет сосредоточиться на своих обычных занятиях.
VIII
Подмастерье возвратился домой вполне умиротворенным, но еще не дозревшим до самоиронии по случаю неожиданно обнаруженной в себе непомерной обидчивости. Может, его подспудно сдерживало владевшее им желание сберечь силы для главного дела жизни, скрывавшегося раньше под всевозможными занятиями, а теперь, правда временно, состоящего в разжевывании истории Лота девице легкого поведения, в силу разных обстоятельств не получившей высшего, как оно называлось в тех местах, образования.
Войдя в дом, он не справился об Аколазии, и, переодевшись и освежившись, стал ожидать клиентов. Его потянуло было к столу, к занятиям, но он быстро обуздал свое желание, ибо на этот день план был перевыполнен и перенапряжение привело бы, как он это хорошо знал и не раз испытывал, к потере работоспособности на следующий день, а может, и на следующие дни.
Расхаживая по своей комнате, он поймал себя на мысли, что приход клиентов его не очень-то и волнует. Не то чтобы он был утомлен небольшими победами, связанными с их появлением и обслуживанием, скорее их ожидание и появление окончательно сформировались в механический придаток к его переживаниям, его распорядку дня, и, как он ни осознавал их необходимость для нормального функционирования всего остального, их обременительность была не менее очевидной.
Грустить по этому поводу ему долго не пришлось, ибо его быстро охватила богобоязнь, заставившая откреститься от незрелых мыслей, вызванных пресыщением затянувшейся сытостью. К счастью, стук в дверь последовал за его покаянием в грехах, и еще до появления клиента не мог не быть расценен как вознаграждение от ничего не упускающего в своем всеведении высшего существа.
После того, как перед Подмастерьем предстал Фаразел, редко захаживающий, но принимаемый и обхаживаемый с неизменным радушием, он понял, что вознаграждение было подлинным. Фаразела, как и добрую половину своих прихожан, Подмастерье знал через тех девиц, которые пользовались его квартирой для свиданий.
Еще с былых времен Фаразел запомнился ему своим выделяющим его из большинства постоянством, пристрастием к “моногамии”. Его нельзя бы ло соблазнить никакой приманкой, пока он находился, как в прямом, так и в переносном смысле, в связи с какой-нибудь пташкой, и всеми силами старался довести ее до состояния и оперения благородной птицы.
Тем не менее изредка, может, раз в год, он позволял себе исключение из правил (совпадающее, как легко можно было догадаться, с отъездом жены и детей на отдых) и справлялся о ком-то, с кем не прочь был познакомиться, и если подвернувшаяся особа удовлетворяла ведомые только Фаразелу, но, впрочем, минимальные, капризы, Подмастерье мог быть спокоен, что обе стороны не останутся в накладе.
Фаразелу было около пятидесяти, и Мохтериону по всем параметрам полагалось обращаться к нему на “вы”. Фаразел пришел один, и все клонилось к тому, что это был тот самый единственный раз, когда он изменял своим принципам и его почин следовало поддержать всеми силами.
Он сидел за столом в зале и расспрашивал Мохтериона о его житейских делах. При первом же удобном случае Мохтерион предложил ему взглянуть на Аколазию. Фаразел ради приличия немного помедлил с выказыванием своей готовности познакомиться с ней, но далее повел себя так, что Мохтерион не мог не почувствовать, что тот дорожит и его и своим временем.
Все связанные с Аколазией сомнения и муки последних дней исчезли, по меньшей мере с лица Мохтериона, когда он постучался к ней и тут же убедился в том, что дверь закрыта, и ее появление перед ним он счел делом решенным. Так и произошло. Аколазия приоткрыла дверь, и получила команду на выход.
У Мохтериона было такое чувство, будто он впервые выводит Аколазию к клиенту, и от него требуется вся его учтивость и внимание, чтобы поддержать ее и направить на путь истинный. Скупые жесты и округлые движения Аколазии мгновенно показали Мохтериону, что он со своими благими намерениями тут лишний, и уже охваченный недобрым предчувствием из-за совсем недавно казавшегося столь приятным чувства, он вышел из залы с быстро возрастающей уверенностью, что если встреча с Фаразелом и не будет для нее последней, то такая последняя встреча не за горами и ждать ее надо в ближайшее время.
IX
Наслаждение отдыхом, вызванное приходом такого человека, как Фаразел, продолжалось не очень долго; минут через пятнадцать после него пожаловал Фенер, который явно был взволнован и рад встречей со школьным товарищем.
– Мохтерион, выручай!
– В чем дело, Фенер?
– У меня дома гости, близкие родственники из деревни. Понимаешь, в каком я положении? Едой их не удивишь. Города им хватило ненадолго…
– Еще бы! Наш город трудно отличить от деревни.
– Короче, терпели они два дня, а со вчерашнего начали вопить – хотим женщину, сведи нас к женщине, что ты за горожанин, если не можешь повести нас в порядочный дом.
– И что же? Им, значит, в деревне чего-то не хватает?
– Да! Все, говорят, у нас есть в деревне, даже мороженое привозят из районного центра, а вот женщин, ну, таких… сам понимаешь, нет! Да что о деревне говорить! И здесь с ними туговато. Питаться и одеваться еще кое-как можно, а вот найти женщину…
– Где они?
– Кто?
– Твои родственники.
– Тут, рядом. Я их попросил подождать.
– Цену ты знаешь?
– О чем речь! Они заплатят сполна.

