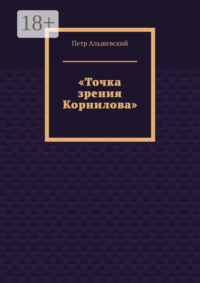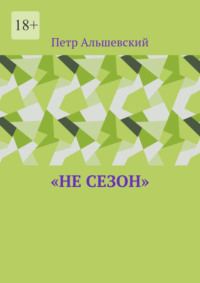Полная версия
«Постояльцы черных списков»
Попеременно подергивая уголками рта, Френк Дженсен смотрит на него с немилосердной хмуростью, но всадник, он же Стен Уильямс, убийца пяти шерифов и властитель умов молоденьких шлюх от Денвера до верховий Рио-Гранде, перебивает Френка на полуслове раскатистым смехом.
Нарастая, смех выходит у Стена из-под контроля. Достигнув непозволительного апогея, он сбрасывает Уильямса с лошади. Не ожидая такого поворота событий, испуганная лошадь Люсиль вздымается на дыбы и стоит так недолго – опускаясь, она касается Уильямса по голове стальной подковой, и хрипло вскрикнувший Стен частично лишается памяти: не полностью, а процентов на девяносто.
Стен Уильямс лежит на спине, давясь густой рвотой. Френк Дженсен забирается ему на спину и уже оттуда запрыгивает на лошадь, но сразу не уезжает; намеренно задержавшись, он не без удовлетворения вслушивается в жалкие стоны: он же Стен Уильямс, жестокое отродье.
– Красиво ты, глупое создание, стонешь, – сказал Френк, – почти как охочая женщина, когда я в нее с размаху вхожу. Как звать-то тебя, глупец?
– Не помню, – чуть слышно пробормотал Стен Уильямс. – Ничего не помню… Помню, что кольт в кобуре, но зачем он мне… Не помню…
Френк Дженсен высокомерно кашляет; раз, два, контакт, неплохо… можно повторить; по памяти Френка проходит что-то наподобие электрического разряда – дыхание учащается. Глаза наливаются непроизвольным знанием.
– А я ведь знаю тебя, глупое ты создание, – сказал Френк, – ты же Френк Дженсен, ничтожный фермер из Монтроза, где с тобой не здороваются даже бродячие коты! А ну-ка давай сюда свой кольт. Винчестер тоже давай. – Нагнувшись к Стену Уильямсу, Френк чуть было не вывалился из седла. – Или снова станешь характер показывать, больших людей озлобляя?
– Куда уж мне, – со стоном ответил Стен, – я же Френк Дженсен, полное ничтожество из какого-то непонятного Монтроза… Забирайте.
– Мудрое решение, Френк, – усмехнулся Френк Дженсен, – даст бог, поживешь еще. Я вот уже дал, теперь дело за Ним. Ну, привет от Стена Уильямса!
– Стена Уильямса? Гмм… Что-то знакомое…
– Еще бы, Френк. Весь Колорадо трепещет!
Домашнему виноделу-почечнику Алексею Фепланову, входящему в стобняк от органной музыки и нередко приглашавшему Мартынова на свою дачу под Дмитровом, такое практически не снится. Когда Алексей думает о себе, у него обязательно стоит. На кладбище ему не так одиноко, как на ночной дискотеке.
Алексей Фепланов не осуществляет гортанных посягательств на всемирную славу Пласидо Доминго и седьмой месяц живет с одной женщиной.
И он, и она – Алексей Фепланов и человечная, симпатичная позитивистка Анастасия Шаркинская, не ассоциировавшая слово «Эммануэль» с названием резвой шхуны безжалостных ямайских пиратов, довольно немолоды, и хотя галерея их тесных встреч включала в себя потертые лики целого ряда ворчливо проковылявших годов, ее это не успокаивало: Анастасии Шаркинской, как и любой женщине, достигшей высокого положения во времени, хотелось определенности.
Верно, правильно, законно, увы; Фепланов не делал ей предложения и даже не удосуживался познакомить ее со своими родителями. Живыми, неживыми, являлось для Анастасии Шаркинской несущественным – лишь бы зашел разговор. К тому же, если бы родители Фепланова уже сошли с суетливой орбиты, он мог бы, по меньшей мере, намекнуть об этом формальным упоминанием вскользь.
С надеждой полюбить. По кромке нищеты.
Кого и как убить? Опять о бренном сны.
Алексею Фепланову почему-то больше нравилось прикасаться к другим составляющим их совместного на словах будущего, и его избирательная сдержанность вынудила Анастасию Шаркинскую пойти на затрагивание интересующей ее темы по избегаемой ей ранее прямой.
– Я не скажу, что мне с тобой хорошо, – созналась она, – но все же лучше, чем без тебя. Никто не раскисает, не разваливается, никто никого не теснит, много ли мне мало?… по делу ли трясутся мои поджилки? Забыли, оставили, я о другом – почему ты не знакомишь меня со своими родителями?
После ее бормотания наступила вмещающая в себя минуту с шлейфом не вошедших в нее секунд пауза, оборванная ничем иным, как сиплым возгласом Алексея Фепланова:
– Сегодня же и познакомлю.
Анастасия Шаркинская несомненно почувствовала значительное воодушевление.
– Когда поедем?! – нетерпеливо спросила она. – Я могу прямо сейчас – соберусь, оденусь…
– Сейчас и поедем. Мне и самому приходило в голову тебя с ними познакомить, но в мою голову обычно приходит такое, что я и сам пытаюсь спрятаться от нее подальше. – Алексей Фепланов провел мокрой ладонью по беспрерывно потевшему лбу. – Заодно и благословение спросим.
Квартира его родителей находилась в Митино – от места их предыдущей беседы в Теплом Стане она была не близко, но Анастасию Шаркинскую это не пугало; известие о том, что они едут к родителям Фепланова спрашивать у них благословение позволило ей наконец-то ощутить себя понятой, и каждый миг их долгого пути казался ей дарованным небом.
Некупленным у него за последующие вслед за этим страдания, а как раз дарованным – пройдясь по квартире его родителей, Анастасия немного растерялась: в углах паутина, столы застелены газетами еще прошлого тысячелетия, зеркала и те занавешаны.
– И где твои родители? – спросила она.
– Да вот же они, – ответил Фепланов.
Привстав на цыпочки, Алексей снял со шкафа две керамические урны.
– Здесь они, мои милые, здесь, – сказал Алексей, – вот папа, а вот и матушка моя ненаглядная.
Обнажение – скорбь – цирк; Фепланов ставит урны между собой и Анастасией, поводит плечами и вынимает из принесенного с собой пакета бутылку «Пшеничной», копченую колбасу, разорванную упаковку сулугуни; накапав себе третью рюмку, Фепланов налил первую для Анастасии.
Шаркинская уже заметно дрожала.
– Твои родители, – сказала она, – люди тебе, конечно же, не чужие, но они что… так и будут на столе стоять?
– Ну, не обратно же их убирать, – сказал Фепланов. – Пусть старики порадуются… их сын привел знакомить с ними свою любимую женщину!
Алексей Фепланов улыбается ей не как кому-то второстепенному. Анастасия Шаркинская рывками отодвигается от стола.
– Меня трогает твоя забота, – протянула она, – не обо всем, не обо мне, но бог с тобой. А твои родители, Алеша, наверное, и жить с нами… теперь станут?
– Само собой, они же мои родители, не впустую же они столько лет без внимания маялись. – Чтобы Анастасия с ним случайно не чокнулась, Алексей спрятал свою рюмку в кулак. – Давай-ка мы с тобой за них выпьем. Пожелаем им уже в ближайшее время на внуков взглянуть.
Упав с вконец расшатавшегося стула на липкий линолеум, Анастасия Шаркинская вспомнила свой старый зарок никогда не жить с родителями мужа.
Она подумала: я должна уйти – сегодня слишком много тайного стало явным, слишком много….
Анастасия покидала Фепланова, не вставая.
– Ты куда ползешь? – спросил Алексей.
– Куда-нибудь, – прошептала она.
Шаркинская уползла – схватившись чуть погодя за мстительно разнывшуюся голову, Фепланов выбежал за ней на улицу. Он опомнился, но было уже поздно.
Поздно и для него, и для всех; двадцать минут первого – Алексей Фепланов зол и на нее, и на своих родителей, мимо Алексея проходят двое высоких мужчин, и Фепланов идет за ними; второй из них – Редин, которому накануне приснился сон.
В этом сне он не открывал глаз, даже когда ему сказали: «я потерял ногу – одну и еще одну»; Редин вздохнул, негромко говоря: «я вам очень сочувствую», и услышал: «Не беда – они далеко не последние»; открыв глаза, Редин увидел перед собой ужасное чудище.
Закуйте меня в железо, подчиняйте, вертите, собирайте урожай непогоды и не кидайтесь на стены от повсеместно нарушаемого патриархата – хватит цепляться за сытный ужин и мягкую кровать. Лучевой терапии не распутать клубок моих мыслей. Алексей Фепланов спросил у Редина:
– Вы видите? Замечаете, что впереди вас продвигается значительный человек?
– Ну, вижу, – ответил Редин.
– Так, я очень опасаюсь, – сказал Фепланов, – как бы он меня не прирезал: у нас с ним свои недоразумения еще по Клину и Торжку. Вас они не касаются, но вы никак не производите впечатление законченного подонка – можно я спрячусь от него за вашей широкой спиной?
Человек, которого Фепланову, по его словам, приходится опасаться, за два метра и около полутора центнеров: если у него в этой жизни и есть какое-нибудь призвание, то только играть, иже стоять насмерть в непроходимом центре защиты команды по американскому футболу.
– Я спрячусь? – еще раз спросил Фепланов.
– Да пожалуйста, – не стал возражать Редин.
Поклонившийся Фепланов спрятался, но не прошло и пяти секунд, как он высунулся и поверх плеча Редина грозно прокричал громадному человеку:
– Эй, здоровый – я твою маму и так, и этак!
Резко обернувшийся громила прячущегося Фепланова не увидел.
– Это ты тут про мою маму орал? – спросил громила у Редина. – Ты или не ты?
– Не я, – ответил Редин.
– А кто?
– Я никого не слышал, – попытался солгать Редин. – Вы говорите, и я вас слышу, а тогда никого. Вам, наверное, послышалось.
– Ну, ну…
Редин воспитан в ежовых рукавицах сострадания к заведомо более слабым, и ему показалось позорным выдавать этого маленького человека – у Фепланова собственные резоны.
Алексей вновь не додумался смолчать:
– Ты выше и толще, но я силен своей третьей ногой, йе-йе, йе-йе! Я ей и твоего папу натягивал!
Теперь уже Редин собирался Фепланова придушить, но не успел; выкрикнув о третьей ноге, Алексей мгновенно исчез в близлежащем кустарнике на двух оставшихся и не столь зависимых от эрекции.
Редин остался с громилой один на один.
Уговаривать его сдержаться от бойни представлялось Редину невозможным, и они с ним сцепились, очень плотно обрабатывая друг друга обоюдной неуступчивостью – приехавшей забирать их милиции и той немало досталось.
Громилу выпустили из отделения в тот же час.
«Счастливого пути вам, Виктор Андреевич, простите моих подчиненных: не разобрались, дали маху, лишатся премии, ответят»; Редин провел там всю ночь – вместе с ним в обезьяннике ночевало еще четверо.
Немолодой таджик без документов.
Женатый парень Кирилл Бабков – получив зарплату, он зашел в принадлежащее армянам кафе и, не выпив еще и двухсот грамм, потерял кошелек; потерял или украли, он подумал, что украли и пошел за помощью в милицию; Кирилл сказал им: «у меня жена и ребенок», а они его в машину и в отделение.
Что же касается бородатого алкаша Константинова, то его взяли прямо в родном дворе. Повязали в шортах – приходивший посмотреть на задержанных капитан несколько раз за ночь сказал ему: «А с тобой мне вообще говорить не о чем. Потому что ты в шортах»; зычный оклик, верный глаз, ты не гопник? на хер вас; попавшего сюда так же из-за драки изнуренного апокалиптика Самолина до самого утра не отпускали тяжелые вздохи: «только-тоооолько жизнь в но-ооормальное русло стааала вхо-ооодить, а все уже под вопросом…».
Кирилл Бабков, представившийся обществу, как «Бомбей», от случившегося с ним беззучно расплакался, и Редин его успокаивал, мягко говоря: «Держись, мужчина – это ведь всего лишь начало»; тяжело вздыхавший Самолин был единственным, кто сумел сохранить при себе одну сигарету; ее берегли, как зеницу ока и передавали по камере с невоспроизводимым на воле трепетом.
Самолин рассказал сокамерникам о произошедшем вчера занимательном случае. Прошлым утром он устроился сторожем в крупный гаражный кооператив, и в один из гаражей пыталась заехать роскошная «Porsche Boxter» – раз за разом не попадала и билась об бетонные углы; у Самолина это вызвало некоторый интерес, и он осторожно постучал по стеклу.
На Самолина обратили внимание, и на вопрос: «я тут сторож, а вы что тут делаете?», смахивающий на миллионера водитель отхлебнул из бутылки рижского бальзама и, гулко засмеявшись, сказал: «что я тут делаю? Собственностью с судьбой делюсь. Слишком все у меня хорошо: не к добру это!».
Самолин дожидается очереди сделать свою затяжку, он пораженно говорит Редину: «ну, у людей и положение: даже собственностью с судьбой делиться приходится»; когда посреди ночи в отделение привезли проституток, Самолин уже прижимался к решетке и похотливо стонал: «деточки, мои сладенькие деточки, покажите дяде, славному доброму дяденьке, хотя бы покажите».
Легавые украли у Редина почти все деньги.
Они оставили ему лишь двадцать рублей плюс проездной на метро, и с утра Редин поехал подышать свободой в Александровский сад; возможно, его подтолкнули к этому проститутки.
Как-то ночью он шел с Арбата и, проходя по Александровскому саду, увидел множество спавших на скамейках женщин: пусть проституток, но с некоторыми из них он выпил водки и зевающе поговорил о заложенном в любой мечте нигилизме; они советовали ему говорить более обоснованно, но он пил водку и не без предостережения приговаривал: «не будите во мне человека, не надо вам во мне его будить»; на скамейках Александровского сада тем утром никто не спал, и найти на них свободное место совсем непросто.
Ногами на земле, всем остальным чуть выше, не кличь дьявола и не принижай архангела; позавчера Редин часа четыре бродил на Патриарших прудах: все скамейки полны, и практически на каждой по несколько девушке; посмотрев в их сторону, Редин тихо сказал: «Зимой вы все будете мои».
Девушки его расслышали и уничижительно покрутили у висков тонкими пальцами. Им же невдомек, что он имел в виду скамейки.
После громил, «Бомбеев», щедрых стражей правопорядка место на скамейке в Александровском саду Редин себе все-таки нашел, и он не скрывает облегчения, вы теряете меня… что?… часа на два… я засыпаю; замедлившись возле ослабшего измученного Редина, порывистая старуха с сопливым ребенком не обнаружили куда бы им присесть и старуха властно заявила:
– Места нам с тобой, Сереженька, никто не занял, но какое же это горе – мы вот у этого дремлющего молодого человека на коленях посидим.
Они разом… вдвоем… прикончу, тварей; они садятся Редину на колени. Старуха на одно, ее вертлявый внук приспособил под себя другое – Редин покрывается гусиной кожей, от старухи разит жареной рыбой; высунув мокрый розовый язык, ребенок показывает его Редину с отчетливым стремлением позлить.
Проведшего ночь в отделении Редина разозлить нетрудно; в скором времени рассвирепев, он схватил ребенка за язык – оттягивает. Ровно настолько, чтобы не оторвать.
Ребенок в мат и слезы. Старуха одобрительно улыбается.
– Самое оно, мужчина, так ему, – сказала она. – Он теперь на всю жизнь запомнит, как с чужими людьми паршиво.
Вскоре они ушли – долгожданный провыв к тишине, не о том говорящие деревья; соседями Редина стала молодая пара.
Девушка попросила Редина отодвинуться подальше в угол, и они с парнем принялись беседовать примерно так:
– Ты что? – спросил парень.
– А ты что? – переспросила девушка.
– Я ничего, а ты что?
– А ты?
– Я не ты, а ты что?
– Я-то я, а ты что?
Затем парень достал нож для резки бумаги и попытался отрезать ей крашеный локон. Ей смешно, и он продолжает, не останавливается, говорит:
– Сейчас я тебе шнурки развяжу!
Она смеется еще громче, он столь же не экономит на идиотском смехе, Редин уже готов проткнуть его жирную рожу безымянным пальцем и, чтобы кого-нибудь здесь не покалечить, с такой силой сжимает свои нечищеные со вчерашнего дня зубы, что голова Редина ходит ходуном.
Парень это заметил. С посредственной иронией в интонации он сумбурно спросил:
– Вы на этой скамейке не один, тут еще я со своей девушкой, но я с ней не только по раздельности, может быть, когда-нибудь и вместе: нам еще жить и жить, а вы мне ненароком не поясните, почему же у вас голова так регулярно дрыгается?
Сильнее… сжимать…. зубы… уже вряд ли возможно, но Редин их все-таки сжимает.
– Да так… – сказал он. – Болею я.
– Не заразно? – спросил парень.
Они засмеялись. Загоготав, еще больше духовно сблизились; делая все, чтобы разжать самопроизвольно сжимающиеся кулаки, Редин подумал: «я сжимаю зубы и кулаки… парень умрет… если я сумею сдержаться, сам от его имени свечку поставлю: во здравие его, чуть не накрывшееся».
Редин тогда сдержался.
Зашел, согласно данному себе обещанию, в церковь, поставил от его имени свечу: имени парня Редин не знал и поэтому, зажигая свечу, он повелевающе промолвил: «Не тухни, свеча – гори за того урода с жирной рожей, который сегодня утром только чудом не присоединился к завсегдатаям Склифа».
Посетив храм, Редин съел холодный хачапури и, воспользовавшись маршрутным такси, доехал до квартиры саморефлексирующей эпиляторши Светланы Власовой.
В ее квартире ни малейшего ветра: духота и отчаяние, исходящее из предположительной правды, что от них ее избавит лишь подтянутый, всему враждебный и еще не родившийся клоун с секирой; Светлана Власова лежит на диване.
Изредка она переворачивается, ничего не дожидаясь и никем не живя: ни Рединым, ни откуда-то появившимся ветром.
Ветер крайне вонюч, он появился непосредственно вслед за Рединым; Светлана Власова без труда догадывается, что никакой это не ветер – это Редин; придя к ней, он зубы пока так и не почистил: пребывающий в коридоре Редин расшатывает застоявшийся воздух своим несвежим дыханием.
Пришел, предварительно не позвонив; стоит в коридоре и если чего-нибудь от нее и хочет, то не говорит.
– Редин… – позвала его Светлана..
– Да, Света? – появившись перед ней, спросил он.
– Заканчивай, Редин, – умоляющим тоном сказала Власова.
– Не полегчало?
– Где уж там…
2
Мартынов трезв. Он вынужден, иначе молодая светлоглазая женщина, с которой он должен встретиться возле психиатрической больницы, не придет к нему и сегодня. Место для встречи она выбрала сама – сказала, что так ей удобней.
Она не больная, просто неподалеку живет.
Когда она пришла, Мартынов еще не ушел.
– Долго ждал? – спросила она.
– Три сигареты, – ответил Мартынов. – А почему ты в спортивном костюме?
– Сейчас я пойду играть в волейбол. И тебе придется снова меня подождать – не торопя. Устройся, Мартынов, где-нибудь рядом с площадкой и тщательно подумай о своих перспективах на меня. Потом расскажешь.
Они идут по немноголюдной лице, и Мартынову хочется хотя бы красного – встревоженность… недюжинная безучастность к извлечению уроков; крови не хватает скорости передвижения, у Мартынова нет иммунитета против эскапад потустороннего затишья; Наталья Самсонова сворачивает, Мартынов за ней, в овраге через натянутую сетку прерывисто летает потертый мяч.
Наталью рады видеть в своем составе обе команды. И это при том, что, как игрок, она выглядит очень плохо; как женщина, она смотрится гораздо лучше, поэтому ей прощают многочисленные ошибки – соверши их Дмитрий Фомин или Кирч Кирай, им бы уже давно член на шершавую ветку намотали.
Она второй час в игре; видя свое будущее в минорных тонах, Мартынов ей не машет. Она ему напротив: иди сюда, Мартынов, сказала она. После ухода Паши «Перца» у нас не достает одного человека, так что, иди – немного ради меня попозоришься.
Мартынов не спорит. Расслабляет мышцы, делает дыхательную гимнастику; его никто не снимает на скрытую камеру, опустошенность с возрастом не проходит, Мартынов в светлых брюках, с руками в карманах, он их вытаскивает – на приеме не всегда, на подаче приходится; Мартынову слегка мешает, что он трезв: если он бьет мимо, он видит это одним из первых. Заглотнув нескольких лафетников «Столичной» он бы обязательно подверг сомнению три-четыре своих промаха, но он трезв и не открывает рта, медленно вспоминая, как играющая с ним в одной команде Наталья Самсонова недавно говорила ему о раздражавшем ее мужчине.
– На Цветном бульваре, – рассказывала она, – моего тогдашнего приятеля Андрея Давыдова попросили помочь мелочью. Рука у него как раз была в кармане, как у тебя зачастую… находясь в кармане, она сжимала собой мелочь, и Андрей подумал: надо ее отдать, судьба это, судьба, рука сжимает мелочь именно в тот момент, когда ее просят. Но потом он передумал и, вытащив руку из кармана, ударил ею просящего. Рука полна мелочью и удар из-за этого получился гораздо сильнее, чем ему бы хотелось. Таким он мне запомнился – щепетильный труженик Андрей Давыдов. Ну еще и тем, что лоб нередко брил.
На сексуальном большинстве лежит немалое бремя ответственности, и я рассмеюсь в глаза тому несчастному, кто займет мое место в твоей постели; меня учили походить на идиота, чтобы беспрепятственно растворяться в толпе, Мартынову неожиданно понравилось играть в волейбол – темнеет и люди расходятся, вот уже остались только он и Наталья; совсем темно, при желании он бы засадить ей прямо на площадке, но Мартынов чувствует: в нем что-то уснуло, что-то проснулось, они играют с Натальей Самсоновой один на один, и данный способ времяпрепровождения ее злит и не радует.
– Там-пам-пам, переведем в том направлении, – сказал Мартынов. – Попал. Тринадцать пять в мою.
– Да мне плевать, – проворчала она.
– К тому же, моя подача.
Выиграв у нее фактически без сопротивления две партии, Мартынов проводил ее домой и пошел к себе. Выпил теплого молока, доел оставшийся зефир, провел тихую ночь первоклассным осознавателем творимой над нами жути: она – Наталья, она… кто бы она, куда бы она, Наташа бы не исправила положение, проведя по моему лицу мокрой грудью, девочка, моя взрослая нервная девочка, все впереди, ты еще распахнешь калитку, ведущую на мою могилу; мигает и мерцает пламя надвигающегося безумия, дьявол требует откупного, за задницу хватают безымянные тролли; приходит воскресное утро, Мартынов выбрасывает в помойное ведро «Love story» Эрика Сигала и нарезает ровными ломтями позавчерашний ситник – вымачивает эти ломтики в наполненной водкой пиале и сбрасывает их голодным птицам, не без оснований копошившимся под его окном; Мартынов не задавал себе вопросов зачем он подкармливает птиц пьяным хлебом. Ел сам и сбрасывал птицам, с нетерпением ждавшим воскресенья, по личному опыту зная, что в этот день Мартынов будет кормить их пьяным хлебом, поев которого, они взлетят над пыльным городом, оторвавшись от земли, подобно вольному косяку раскольцованных ангелов самого высокого девятого чина.
Удаляясь от куполов церквей и кукольных театров, они брали курс на слоистые облака. Облака нижнего яруса: пригодные, как для витья гнезд, так для и для удачных поисков разбросанных по ним медных монеток.
Того, кто побывал на облаках и захотел еще раз туда вернуться, птицы не видели, но его следы – по одному на каждое облако – попадались им any given Sunday.
Это были следы босых ног.
Босых и с небольшим плоскостопием.
Парадом пройдите по мне. Далекие звезды и кислотная явь. Ать-два, ать-два: весь я в этой жалкой лепешке.
Плоской, как мысли. Как зрелость.
Молодость пухнет от надежд, старость от болезней и страха, из Яузы доносится беспокойный лепет водяных дев; Мартынова перестают приглашать на дачу Алексея Фепланова.
Фепланов живет там с новой безотказной женщиной Манягиной: указывает ей на недостатки, сжигает ее журналы мод, жульничает в подкидного; я не сплю, мрак не спит: за мной…. или я за ним; Фепланову хочется узнать сколько сейчас времени.
У него самого висит над головой исправная лампа, но ему необходимо разбудить разжалованную и недавно уснувшую в другом углу Елену Манягину, чтобы она зажгла свою и лишь затем сказала ему о том, который сейчас час. А что теперь резкий свет обожжет глаза уже ей, Алексея Фепланова не волнует: в ее карие глаза пусть и лунные псы подмаргивают, так он думает.
– Сколько времени? – довольно громко спросил он.
Елена очнулась. Она едва понимает: наяву ли ее спрашивают или, может быть, третий сон на втором спотыкается.
– Чего? – переспросила она.
– Только не надо говорить, что женщине всегда нелегко, – сказал Фепланов. – Мне этого не надо. Времени сколько?
– Какого времени?
– Легкого, но тяжелого, – сказал Фепланов, – внешне невидимого, но в этом случае мираж как раз в том, что ты его не видишь.
– Гм… хмм…
– Я о времени, что уходит от нас в пустоту на гнедой тройке механических или электронных часов.
– Ах, об этом… – протянула она. – Сейчас посмотрю.
Елозя рукой по бугристой стене, Манягина нащупывала на ней выключатель, но наткнулась не на него, а на саму лампу с крупным плафоном, когда-то переставленным на ночник с полуразбитой люстры: лампа падает на Манягину, по всей комнате разбрасываются крики и протяжные вздохи; дождавшись возобновления тишины, Алексей Фепланов злорадно добавляет в общее месиво толику угрюмого зудения.
– Какая же неуклюжая ты женщина, – сказал он, – чего тебе не поручишь все себе же боком выйдет. Хоть не живи с тобой, не люби тебя.
– Голове больно… – пожаловалась Елена.