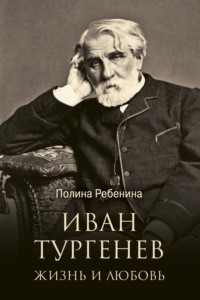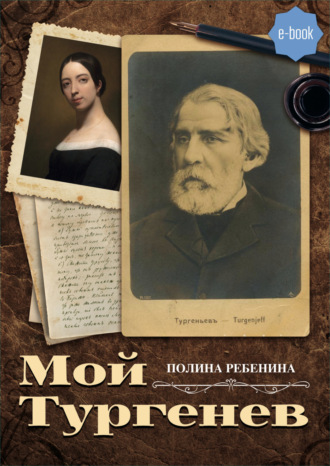
Полная версия
Мой Тургенев
Тургенев был очарован этим «прекрасным созданием» и, в особенности, письмами, которые писала ему эта возвышенная девушка. Роман развивался стремительно, он называл ее своей Музой, а она писала в ответ: «Такой счастливой я еще никогда, кажется, не была – я жила всею душой, всем сердцем моим, каждая жилка трепетала жизнью во мне, и все вокруг меня как будто вдруг преобразилось. Если б я могла окружить Вас всем, что жизнь заключает в себя прекрасного, великого, если б я могла…» Восторженная романтическая девушка не скрывает своих чувств: «Вы святой, вы чудный, вы избранный богом. Вам принадлежит не маленькая частичка жизни, славы, счастья; вам вся полнота, вся бесконечность, вся божественность бытия. О, оставьте меня в святом, блаженном созерцании той дивной будущности, которую я смею предрекать вам».
К зиме приезжает в Москву и Варвара Петровна. С Татьяной Бакуниной все продолжался роман в письмах, но это не мешало Ивану иногда встречаться в Москве и с Авдотьей, о чем он сделал запись в Мемориале: «1842. Новый год в Москве. Авдотья Ер<молаевна> продолжает ходить и беременная. В мае родится Полинька».
А Татьяна Александровна мечется, терзается и в марте 1842 года первой признается Тургеневу в любви: «…Тургенев, если б вы знали, как я вас люблю, вы бы не имели ни одного из этих сомнений, которые оскорбляют меня – вы бы верили, что я не забочусь об себе – хотя я часто предаюсь всей беспредельной грусти моей – хоть я хочу, хоть я решилась – умереть – но если б я не хотела – разве воля моя могла изменить что-нибудь – мой приговор давно произнесен, и я только с радостью покоряюсь ему – ропот – борьба, но к чему она послужила бы – и я так устала бороться, что могу только молча ждать свершения Божьей воли надо мной – пусть же будет, что будет!»
«Иногда все во мне бунтует против вас. И я готова разорвать эту связь, которая бы должна была унижать меня в моих собственных глазах. Я готова ненавидеть вас за ту власть, которой я как будто невольно покорилась. Но один глубокий внутренний взгляд на вас смиряет меня. Я не могу не верить в вас… С тех пор как люблю вас, у меня нет теперь ни гордости, ни самолюбия, ни страху. Я вся предалась судьбе моей.
…Господи, зачем вы так удаляетесь! Не я ли причина этого внезапного отчуждения? Но отчего? Чему приписать это? Если и нет более страсти во мне, то все же осталась та же привязанность, та же нежность, и если когда-нибудь вы будете нуждаться в этом, вспомните, Тургенев, что есть душа на свете, которая лишь ждет вашего зова, чтобы отдать вам все свои силы, всю любовь, всю преданность… Я могла бы без страха предложить вам самую чистую привязанность сестры, – она вас более не волновала бы, как волновали когда-то те странные отношения, которые я необдуманно вызвала между нами – она не лишила бы вас свободы и никогда не была бы гнетом для вас».
Тургенев не мог жениться, ведь он был не свободен, над ним довлела воля матери, да и желания большого не было. Кроме того он уже порядком устал от постоянных писем и непрерывных изъявлений этой возвышенной любви. Тургенев боялся оскорбить девушку, но в конечном итоге вынужден был осторожно, но решительно положить конец этим отношениям:
«Мне невозможно оставить Москву, Татьяна Александровна, не сказавши Вам задушевного слова. Мы так разошлись и так чужды стали друг другу, что я не знаю, поймете ли Вы причину, заставившую меня взять перо в руки… Вы можете, пожалуй, подумать, что я пишу к Вам из приличия… все, все это и еще худшее я заслужил…
…Я иногда думал, что я с Вами расстался совсем, но стоило мне только вообразить, что Вас нет, что Вы умерли… какая глубокая тоска мной овладела – и не одна тоска по Вашей смерти, но и о том, что Вы умерли, не зная меня, не услышав от меня одного искреннего, истинного чувства, такого слова, которое и меня бы просветило, дало бы мне возможность понять ту странную связь, глубокую, сросшуюся со всем моим существом… связь между мною и Вами… Не улыбайтесь недоверчиво и печально… Я чувствую, что я говорю истину, и мне не к чему лгать.
…Я стою перед Вами и крепко, крепко жму Вашу руку… Я бы хотел влить в Вас и надежду, и силу, и радость… Послушайте – клянусь Вам Богом: я говорю истину – я говорю, что думаю, что знаю: я никогда ни одной женщины не любил более Вас – хотя не люблю и Вас полной и прочной любовью… я оттого с Вами не мог быть веселым и разговорчивым как с другими, потому, что я люблю Вас больше других; я так – зато – всегда уверен, что Вы, Вы одна меня поймете: для Вас одних я хотел бы быть поэтом, для Вас с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана, так что мне почти Вас не нужно видеть, что я не чувствую нужды с Вами говорить – оттого что не могу говорить, как бы хотелось, и, несмотря на это, – никогда, в часы творчества и блаженства, уединенного и глубокого, Вы меня не покидаете; Вам я читаю, что выльется из-под пера моего – Вам, моя прекрасная сестра… О если б мог я хоть раз пойти с Вами весенним утром вдвоем по длинной, длинной липовой аллее – держать Вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает – и навек. Да, Вы владеете всею любовью моей души, и, если б я мог бы сам себя высказать – перед Вами, мы бы не находились в таком тяжелом положении… и я бы знал, как я Вас люблю.
…Ваш образ, Ваше существо всегда живы во мне, изменяются и растут и принимают новые образы, как Прометей: Вы моя Муза; так, например, образ Серафины развился из мысли о Вас, так же, как и образ Инесы и, может быть, донны Анны, – что я говорю «может быть» – все, что я думаю и создаю, чудесным образом связано с Вами.
Прощайте, сестра моя; дайте мне свое благословение на дорогу – и рассчитывайте на меня – покамест – как на скалу, хотя еще немую, но в которой замкнуты в самой глубине каменного сердца истинная любовь и растроганность.
Прощайте, я глубоко взволнован и растроган – прощайте, моя лучшая, единственная подруга. До свидания».
Это письмо огорчило, и заставило глубоко переживать любящую девушку. Она набросала, набежавшие в ответ мысли, на краешке этого письма Тургенева: «Удивительно, как некоторые люди могут себе воображать всё что им угодно, как самое святое становится для них игрою и как они не останавливаются перед тем, чтобы погубить чужую жизнь. Почему они никогда не могут быть правдивы, серьезны и просты с самими собою – и с другими – неужели у них совершенно нет понятия ни об истине, ни о любви, – я говорю о любви в общем смысле; мне кажется, кто носит ее в сердце, кто проникнут ее духом – тот всегда прост, велик и добросовестен по отношению как к себе, так и к другим; он не может легкомысленно играть, как дитя, с самым святым – с жизнью другого человека, если он ее и мало уважает, если он даже совсем равнодушен к ней – но он всегда будет щадить ее; я в нем не будет ни лжи, ни притворства – но что это за человек, который не осмеливается быть правдивым».
В июне того же года состоялась новая их встреча, и но ничего не изменилось… Этот роман известный биограф Тургенева Нина Молева назвала «Романом без весны».
* * *Переживаниям, связанным с этим знаменательным увлечением, посвящен целый ряд лирических стихотворений Тургенева начала сороковых годов («Долгие белые тучи плывут», «Дай мне руку – и пойдем мы в поле», «Нева», «Когда с тобой расстался я…» и много других). Отзвуки романа с Бакуниной различимы также в поэме «Андрей» и в рассказе «Андрей Колосов». Общую атмосферу «премухинского гнезда» писатель отразил во многих своих первых романах и повестях.
Сопоставляя отдельные строфы стихотворений Тургенева, посвященных Бакуниной, с соответствующими отрывками из его писем к ней, легко заметить, что стихотворения эти были как бы лирическим дневником его и непосредственно перекликались с письмами.
«Дайте мне Вашу руку, – писал Тургенев Бакуниной в марте 1842 года, – и, если можете, позабудьте все тяжелое, все половинчатое прошедшего. Вся душа моя преисполнена глубокой грусти…» и т. д.
И вот выдержки из стихотворения, также написанного в 1842 году:
Дай мне руку – и пойдем мы в поле,Друг души задумчивой моей…Позабудь все тяжкое, все злое.Позабудь, что расставались мы.Верь: смущен и тронут я глубоко,И к тебе стремится вся душа…«Ваши письма, Тургенев, не оставят меня, – писала Татьяна Бакунина, – покуда будет жизнь во мне. Вам самим я не отдала бы их, если бы Вы даже стали требовать – мое страдание, моя любовь дали мне право, которого никто на свете не отнимет у меня. Ваши два последние письма – с тех пор, как я получила их – лежат на груди у меня – и мне одна радость чувствовать их, прижимать их крепко, долго…»
И вот строки из стихотворения «Нева» (1843 г.):
Теперь, быть может, у окнаОна сидит… и не страдает;Но, как свеча от ветра, таетИ разгорается она….Иль, руки страстно прижимаяК своей измученной груди,Она глядит полуживаяНа письма грустные твои…Тургенев встречался с Татьяной Бакуниной не только в Премухине, но и в Москве и в имении друзей Бакуниных – Бееров.
Уезжая из Шашкина в 1842 году, Татьяна Бакунина писала Тургеневу: «Вчера вечером мне было глубоко бесконечно грустно – я много играла и много и долго думала. Молча стояли мы на крыльце с Alexandrine – вечер был так дивно хорош – после грозы звезды тихо загорались на небе; и мне казалось, они смотрят мне прямо в душу… Вот Вам письмо, которое я писала после первого свидания с Вами здесь – прежде я все хотела отдалить его, но теперь я хочу, чтобы вы знали все, что я думаю про Вас. Прощайте, Тургенев, пора ехать: близко Вас проедем мы, мне весело, прощайте, дайте мне руку Вашу…»
Стихотворение Тургенева «Гроза промчалась» (1844 г.) перекликается с этим письмом Татьяны Бакуниной. Оно навеяно воспоминаниями о той поре, когда Тургенев приезжал из Спасского верхом в Шашкино уже после того, как Татьяна Александровна уехала оттуда.
Это о ней, о своей «доброй, прекрасной сестре», вспоминал он, всходя на ступени знакомого крыльца: «А ты? Где ты? Что делаешь теперь?..»
Гроза промчалась низко над землею…Я вышел в сад; затихло все кругом —Вершины лип облиты мягкой мглою,Обагрены живительным дождем.…Какая ночь! Большие, золотыеЗажглися звезды… воздух свеж и чист;Стекают с веток капли дождевые,Как будто тихо плачет каждый лист.Зарница вспыхнет… Поздний и далекийПримчится гром – и слабо прогремит…Как сталь блестит, темнея, пруд широкий, —А вот и дом передо мной стоит.И при луне таинственные тениНа нем лежат недвижно… вот и дверь;Вот и крыльцо, знакомые ступени…А ты… Где ты? Что делаешь теперь?Упрямые, разгневанные боги,Не правда ли, смягчились? И средиСемьи твоей забыла ты тревоги,Спокойная на любящей груди?Иль и теперь горит душа больная?Иль отдохнуть ты не могла нигде?И все живешь, всем сердцем изнывая,В давно пустом и брошенном гнезде?Героиня этих стихов – Татьяна Бакунина станет героиней многих его романов. Союз двух возвышенных, влюбленных сердец не состоялся, однако образ Татьяны отразился во многих произведениях писателя: «Андрей Колосов», «Переписка», «Татьяна Борисовна и ее племянник»

Виссарион Белинский и Иван Тургенев на прогулке
6. Поиск жизненного пути
Спасские каникулы закончились, надо было поступать на службу. Еще в Берлине Тургенев планировал сдать в России экзамены на магистра философии и тем самым завершить свое философское образование. О допуске к экзаменам Тургенев пишет прошение на имя ректора Московского университета. В ожидании ответа Тургенев ведет светскую жизнь и посещает московские литературно-философские салоны. Несомненно, что обучение философии в Берлине разбудило в нем живой интерес к заоблачным полетам мысли.
В то время литературный мир России разделяли два идейных течения – славянофилы и западники. Славянофилы видели спасение искусства, философии и даже политики во всем русском, традиционном, православном, в близости к земле; а западники проповедовали необходимость для России во всем следовать европейскому опыту. Первые ценили прошлое родины, ее самобытность, опасались влияния новых идей и считали, что Россия должна служить духовным светочем для человечества; вторые – были открыты европейской культуре и миру, считали, что прогресс находится именно там и мечтали о том, чтобы Россия соединилась с Европой.
Чаще всего Тургенев посещает своего приятеля по берлинскому университету Т. Н. Грановского, который раньше его прилетел в Россию и «приземлился» в Москве. Он получил кафедру западноевропейской истории в Московском университете и успел обзавестись семьей. Взгляды западника Грановского, как и многих философов из их студенческого берлинского кружка претерпели большие изменения и перешли из умозрительной, идеальной плоскости в область практическую. Грановского и его сторонников больше всего теперь волновало будущее России, вопрос о том, по какому пути должно идти ее развитие. В его доме на Никитской собирались близкие по духу люди – В. Боткин, актер Щепкин, Кудрявцев, Кавелин… Все члены этого кружка, как и Грановский были убежденными западниками, они дружно отвергали всякую самобытность славянской и русской культуры, да и вообще отрицали ее существование. Признавали они лишь культуру Запада, которую считали необходимым пересадить на русскую почву.
Нередко бывал Тургенев и в салоне Авдотьи Петровны Елагиной, где собирались люди противоположного толка – славянофилы. В этом салоне высказывались совершенно иные взгляды на славянскую культуру и пути развития России. Здесь приветствовался и изучался русский эпос – песни, сказки, былины… Здесь Тургенев дважды встретился в 1841 году с Н. В. Гоголем и близко познакомился со славянофилами: братьями Киреевскими, отцом и сыновьями Аксаковыми и А. С. Хомяковым. Последний был блестящим мыслителем и оратором, он знал 21 языка, перевел «Германия» Тацита с латыни. В 1839 году Алексей Хомяков написал программную статью – манифест славянофилов «О старом и новом», которая широко обсуждалась и распространялась в рукописи. В ней он изложил свои идеи об историческом предназначении России, ее особом пути развития, превосходстве православия над католицизмом: «Всемирное развитие истории, требует от нашей Святой Руси, чтобы она выразила те всесторонние начала, из которых она выросла… История призывает Россию стать впереди всемирного просвещения…» Хомяков развивал идеи о коренном различии России и Европы, и далеко не в пользу Запада. Он говорил о том, что Западу свойственна ассоциативность, то есть принуждение большинством меньшинства, в то время как славянам всегда была присуща соборность, что значит добровольное, сердечное согласие между людьми, выработанное в результате свободного обмена мнениями. Корни Запада лежат в римской государственности и католицизме, а корни России – в греческо-эллинской традиции и православии. К сожалению, этот блестящий мыслитель в 1860 году во время эпидемии холеры поехал в деревню, чтобы лечить крестьян, но заразился сам и умер.
Как западники, так и славянофилы выступали против крепостного права, однако если первые отстаивали демократическое государственное устройство, то вторые поддерживали самодержавие, считая его близким по духу русскому народу. Тургенев в то время еще колебался, считая что обе точки зрения были по-своему верны, никак не мог определить свой выбор, свое мировоззрение, которое балансировало где-то посередине.
В то самое время Тургенев увлекся философией Монтеня, и его книгу «Опыты» постоянно видели у него в руках. Евгений Михайлович Феоктистов вспоминал: «Он был в совершенном восторге от этого писателя, увлекавшего его столь же глубоким знанием человеческой натуры, сколько образностью и меткостью своего языка. Симпатично действовал на него и самый характер Монтеня, который в одну из самых бурных исторических эпох, в то время, когда религиозный фанатизм разделил все общество на два проникнутые неистовою враждою лагеря, оставался как бы равнодушным зрителем этого движения и бесстрастно анализировал людские страсти и отношения». Как Монтень старался Тургенев лавировать между западниками и славянофилами, не разделяя полностью взглядов ни одного из этих течений.
Тургенева привлекало литературное творчество, а совсем не политика, поэтому он заинтересовался письмами Цицерона, которые читал в немецком переводе. А по вечерам сообщал своим приятелям впечатления от прочитанного: «Я ставлю себя в положение Цицерона, и сознаюсь, что после Фарсальской битвы еще больше, чем он, вилял бы хвостом пред Цезарем; он родился быть литератором, а политика для литератора – яд».
Через несколько месяцев Иван Сергеевич получил, наконец, ответ из Московского университета о том, что экзамен на звание магистра не может состояться, ввиду того, что кафедра философии упразднена. Тургенев вынужден был отправиться в Петербург и обратиться с аналогичным прошением в Петербургский университет. Там он, наконец-то, получил допуск к экзаменам и успешно их выдержал, однако никакого удовлетворения от осуществления своей мечты не ощутил. Он уже успел остыть к идеальным, возвышенным философским поискам истины и стремился, как и его друзья юности, спуститься на землю.
* * *В мае 1842 года Тургенев снова едет в Спасское, где с упоением охотится на тетеревов, а позднее вместе с братом Николаем сопровождает матушку в Мариенбад на лечение водами. Он едет с надеждой встретиться в Германии с другом юности Михаилом Бакуниным. Эта встреча состоялась, и Тургенев с удивлением обнаружил, что и Мишель превратился из возвышенного философа в энергичного практика революционной борьбы, которую он пропагандирует в основанном им кружке. Бакунин посчитал, что Запад стоит ближе к революции, чем Россия, и поэтому решил развернуть свою деятельность именно там. Его зажигательный лозунг революционера-анархиста «в сладости разрушения есть творческое наслаждение» облетел в те годы всю Европу.
В разговоре с Тургеневым он с упоением развивал свои анархистские идеи: «Скажи мне, что уцелело от старого католического и протестантского мира? Разве ты не читал Штрауса, Фейербаха, Бруно Бауэра? Разве ты не видишь, что вся немецкая литература проникнута духом отрицания? Ясно, что дух, этот старый крот, выполнил свою подземную работу и скоро явится вновь, чтобы держать свой суд. Повсюду, особенно во Франции и Англии, образуются социалистически-религиозные союзы. Все народы и все люди полны каких-то предчувствий… О, воздух душен, он чреват бурями! Взываю к тебе, мой заблудший брат, покайся, царство Божие близко! Раскрой сердце для истины. Доверься великому духу, который потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечно-созидающий источник всякой жизни!» Эти идеи он позднее высказал в своей знаменитой статье «Реакция в Германии», за что подвергся преследованию полиции и был вынужден бежать в Швейцарию.
Тургенев с интересом выслушивал своего друга, но и только…В глубине души он никогда полностью не разделял революционные идеи, он был против разрушения, насилия и стоял за созидание, улучшение и постепенное преобразование. Уже тогда он высказывался против всяких бунтов и революций, в чем еще больше утвердился позднее – после кровавых парижских событий 1848 года.
Была еще одна важная причина, из-за которой Бакунин хотел встретиться с Тургеневым. Бакунин надеялся, что Тургенев как его друг поможет ему в устройстве его материальных дел, уже в который раз, оказавшихся в невероятно запутанном состоянии. Он занимал деньги направо и налево, не задумываясь над тем, когда сумеет расплатиться со своими заимодавцами. Порою положение его было настолько трудным, что казалась неизбежной долговая тюрьма.
Бакунин думал, что Тургенев сумеет выручить его, погасив значительную часть его долгов. Надежды эти, может быть, и оправдались бы, если б Иван Сергеевич сам не находился в зависимости от Варвары Петровны, постоянно предостерегавшей его от ненужных трат. Она частенько напоминала Ивану Сергеевичу об отце, который, по словам ее, «денег не любил считать…» и запрещала всякие ненужные по ее мнению траты. Ивану Сергеевичу очень не нравилось, когда эта денежная зависимость от матери становилась очевидной его друзьям и знакомым. Чувство ли неловкости перед ними или некоторая беспечность, свойственная ему в молодости, толкали его порою на обещания, выполнить которые он не всегда был в состоянии. Так случилось и на этот раз. Обсуждая с Бакуниным его денежные дела, Тургенев обещал уплатить некоторые долги своего друга, но сделать это в полной мере и в обещанные сроки не сумел, что повлекло за собою ухудшение их взаимоотношений.
Уезжая в конце 1842 года из Германии в Россию, Тургенев увозил с собою письма Бакунина к родным и друзьям, его портрет, список всевозможных поручений, экземпляры журнала «Немецкий ежегодник науки и искусства», в котором была напечатана статья Бакунина «Реакция в Германии», подписанная псевдонимом Жюль Элизар. Эта статья произвела очень сильное впечатление на современников. Герцен называл ее «художественно-превосходной» и «замечательной».
В письме к брату Николаю Михаил Бакунин писал:
«Тургенев уезжает, и я пользуюсь случаем, чтобы переговорить с тобой о деле.
После долгого размышления и по причинам, которые объяснит тебе Тургенев, я решился никогда не возвращаться в Россию. Не думай, чтобы это было легкомысленное решение; оно связано с внутреннейшим смыслом моей прошедшей и настоящей жизни.
Это моя судьба, жребий, которому я не могу, не должен и не хочу противиться. Не думай также, чтобы мне было легко решиться на это – отказаться навсегда от отечества, от вас, от всего, что я только до сих пор любил. Никогда я так глубоко не чувствовал, какими нитями я связан с Россией и со всеми вами, как теперь, – и никогда так живо не представлялась мне одинокая, грустная и трудная будущность, вероятно ожидающая меня впереди на чужбине… Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее, а здесь я чувствую, что я хочу еще жить, я могу здесь действовать, во мне еще много юности и энергии для Европы».
Прощаясь с Тургеневым, Бакунин сказал: «Долго не увидимся мы с тобою. Мы идем совершенно разными, противоположными путями. Не забывай меня – я тебя никогда не забуду, никогда не перестану любить тебя и верить тебе. Когда ты позабудешь, я подумаю, что ты умер. Хорошо, что мы еще раз увидались: мы узнали друг друга – и я уверен, что где бы нам ни пришлось встретиться и в каких бы обстоятельствах мы ни были, мы пожмем друг другу руки».
* * *В начале декабря 1842 года Тургенев возвратился из-за границы в Петербург. Перед этим он написал поэму «Параша», которую издал отдельной книжкой в апреле 1843 года за подписью «Т. Л.». В этой поэме Тургенев впервые выражает свое критическое отношение к семейной жизни; с грустной насмешкой смотрит на семейные оковы, считая, что с женитьбой мечты поэта кончаются и начинается скучная проза жизни. В самый день отъезда из Петербурга в Спасское Тургенев зашел к Белинскому (он знал, где критик жил, но не посещал его, лишь всего два раза встретился c ним у знакомых), и не назвавшись, оставил его человеку один экземпляр книги. Тургенев сильно рисковал, оставив своею поэму Белинскому, ведь он хорошо знал, что тот объявил беспощадную войну романтизму и в своих критических статьях гневно обрушивался на всякое поэтическое «лепетание в стихах». В деревне Тургенев пробыл около двух месяцев и, получив майскую книжку «Отечественных Записок», прочел в ней длинную критическую статью Белинского о своей поэме. «Он так благосклонно отозвался обо мне, так горячо хвалил меня, что, помнится, я почувствовал больше смущения, чем радости. Я не «мог поверить»» – вспоминал Тургенев.
Отзыв Белинского был поистине восторженным! Он говорил о поэме, что это «один из прекрасных снов на минуту проснувшейся русской поэзии», «глубокая идея», «стих обнаруживает необыкновенный поэтический талант»!.. Приветствуя появление нового дарования, Белинский писал, что «верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которою скрывается столько чувства, – всё это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его».
Такого Тургенев не никак ожидал, ведь он сам был весьма невысокого мнения о своих поэтических произведениях. В доказательство сказанного, Белинский в своей статье цитировал некоторые особенно понравившиеся ему строфы:
Люблю я пышных комнат стройный ряд,И блеск, и прихоть роскоши старинной…А женщины… люблю я этот взглядРассеянный, насмешливый и длинный;Люблю простой, обдуманный наряд…Я этих губ люблю надменный очерк,Задумчиво приподнятую бровь,Душистые записки, быстрый почерк,Душистую и быструю любовь;Люблю я эту поступь, эти плечи,Небрежные, заманчивые речи……Но, как листок блестящий и счастливыйЕе несет широкая волна…Все в этот миг кругом ей улыбалось,Над ней одной все небо наклонялось,И, колыхаясь медленно, траваЕй вслед шептала милые слова……Мой Виктор перестал любить давно…В нем сызмала горели страсти скупо;Но, впрочем, тем же светом решено,Что по любви жениться – даже глупо.И вот в кого ей было сужденоВлюбиться… Что ж? он человек прекрасныйИ, как умеет, сам влюблен в нее;Ее души задумчивой и страстнойСбылись надежды все… сбылося всё,Чему она дать имя не умела,О чем молиться смела и не смела…Сбылося всё… и оба влюблены…Но всё ж мне слышен хохот сатаны.Сводная сестра писателя Варвара Николаевна Житова вспоминала о реакции матери Тургенева на его творчество: «Вступление Ивана Сергеевича на литературное поприще весьма не нравилось Варваре Петровне. По этому поводу происходили между матерью и сыном частые разговоры. Сидели мы раз в Спасском на балконе: Варвара Петровна, Иван Сергеевич, у ног которого покоилась его известная Дианка, заменившая умершего Напля, и я.