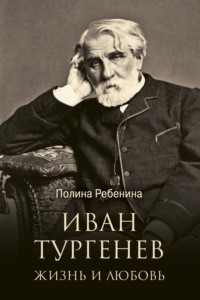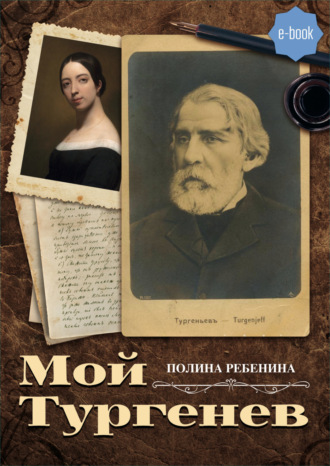
Полная версия
Мой Тургенев
Русский журналист Анатолий Викторович Половцев вспоминал слова Тургенева: «Одну только повесть я перечитываю с удовольствием. Это «Первая любовь». В остальном – хотя немного, да выдумано, в «Первой любви» же описано действительное происшествие без малейшей прикраски, и при перечитывании действующие лица встают как живые предо мною…»
Тургенев начинает свою повесть издалека: «Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года. Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь». И постепенно вводит нас в историю знакомства с соседкой по даче княжной Зинаидой Засекиной. Он был далеко не единственным, кто оказался во власти ее необыкновенной красоты и обаяния. Вокруг нее кружился рой поклонников, без памяти влюбленных и готовых многим пожертвовать ради ее благосклонности. А потом рассказывает, как и сам влюбился, однако через некоторое время выяснилось, что есть у него счастливый соперник, и это не кто иной, как его собственный отец.
«В «Первой любви», – говорил Тургенев, – я изобразил своего отца. Меня многие за это осуждали, особенно за то, что я этого не скрывал. Но я думаю, что дурного тут ничего нет и скрывать мне нечего. Отец мой был красавец; я могу это сказать, так как я нисколько на него не похож, – я похож лицом на мать. Он был красив настоящей русской красотой. Обыкновенно он держался холодно, даже неприступно, но стоило ему захотеть понравиться, – в его лице, в его манерах появлялось что-то неотразимо очаровательное. Особенно он становился таким с женщинами, которые ему нравились».
«Первая любовь» – чудесное произведение, по достоинству оцененное современниками. Это мое самое любимое произведение Ивана Тургенева. Не могу забыть сцену последнего разговора у окна между отцом автора и Зинаидой. Помню, как что-то горячо доказывал отец Зинаиде, очевидно, убеждая ее в невозможности продолжения их отношений из-за непреодолимых препятствий воздвигаемых его женой. И как молча выслушала его Зинаида, а потом что-то коротко сказала в ответ, возможно: «Люблю тебя и любить никогда не перестану!»
И как распаленный возражениями отец неожиданно хлестнул ее по обнаженной руке хлыстом. А Зинаида медленно подняла эту руку и поцеловала заалевший на ней рубец. И как потрясенный этим отец отбросил хлыст и ворвался в дом. Для меня никогда не возникало сомнений в том, что произошло после этого. Перевернулось сердце у него в груди, нахлынуло волной чувство любви, вбежал он в дом, схватил ее в объятия, ну, а дальше, как сказал поэт, «зацелую до смерти, изомну как цвет». Ведь он Зинаиду страстно любил, потому-то плакал и уговаривал свою старую властную жену отпустить его на волю, однако она не соглашалась, и не было никакой возможности освободиться.
И как сильно удивили меня мнения литературных критиков о том, что несомненно вбежал отец в комнату, чтобы избить Зинаиду (!), и почему же юнец Тургенев не вступился и не защитил девушку, значит, струсил (?). Странные умозаключения, удивительно, что прочли мы между строк с этими уважаемыми читателями совершенно противоположное развитие событий…
Эта любовь в реальной жизни закончилась трагически – смертью главных действующих лиц. В 1834 году умирает отец Тургенева от почечнокаменной болезни, умирает совсем еще молодым, сорока лет. Среди современников ходили слухи, что умер он не от болезни, а от трагической любви, приняв яд. Перед смертью отец написал Ивану: «Сын мой, бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы…»
Екатерина Шаховская вышла замуж, несмотря на то, что в свете была известна ее связь с отцом Тургенева. Однако жила она недолго: родила сына, а через шесть дней, всего 21 года от роду, умерла. Последовала за своим возлюбленным. На её надгробии выбили эпитафию:
«Мой друг, как ужасно, как сладко любить!
Весь мир так прекрасен, как лик совершенства»
Может статься, что свела обоих влюбленных в могилу совсем не болезнь, а любовь… Не пережили они трагической разлуки, как Ромео и Джульетта…
В эти годы посетила Тургенева не только платоническая первая любовь, но и пережил он любовь телесную – аристотельскую. Об этом приключении он также оставил запись в Мемориале за 1833 год: «В 1-й раз имею женщину, Апраксею в Петровском». Подошла эта горничная к барину, конечно, не по своей воле, а по поручению Варвары Петровны, которая решила, что пора ее сыну кончать витать в облаках и приобщиться земных радостей. Уже в конце жизни указывал Иван Сергеевич другу Я. Полонскому на то место, по которому крался он на свое первое свидание, в темную-претемную ночь, и подробно, мастерски рассказывал, как он перелезал через канавы, как падал в крапиву, как дрожал, как в лихорадке, и по меже – «вон по той меже» – пробирался в темную, пустую хату.
О том же рассказал Тургенев на обеде с французскими литераторами в Париже. Его рассказ воспроизвел Эдмон Гонкур в своем «Дневнике» (27 января 1878 года): «Я был совсем юным и невинным и имел желания, которые имеют все в пятнадцать лет. У моей матери была красивая горничная. Это произошло в дождливый день – один из тех эротических дней, которые описал Доде. Начинало смеркаться. Я гулял по саду. Вдруг эта девушка подошла ко мне, коснулась моих волос и сказала: «Пойдём!» То, что последовало потом, – сенсация, подобная тем сенсациям, которые мы все испытываем. Но это лёгкое касание волос и это единственное слово я часто вспоминаю и бываю совершенно счастлив».
* * *Как известно, еще в 1834 году из-за скандальной истории в связи с любовной связью Варвары Петровны с домашним доктором в Спасском, отец Тургенева переехал жить в Петербург. Затем Сергей Николаевич перевел в Петербургский университет младшего сына Ивана. Здесь Иван стал жить вместе со старшим братом Николаем, который в то время служил в Гвардейской артиллерии. А вскоре их отец, Сергей Николаевич Тургенев, скончался.
Иван продолжал учиться на историко-филологическом факультете Петербургского университета, и осенью 1837 года получил степень кандидата. Каждое лето он проводил в Спасском, где и случился один неприятный эпизод. Вот как об этом рассказывал А. А. Дунин, журналист:
«Иван Сергеевич – студент петербургского университета – приехал домой, в село Спасское-Лутовиново, на рождественские каникулы. Первую новость, какую он услышал от матери, это – продажа дворовой девушки Луши, красавицы и первой рукодельницы в дворне. Новость эта поразила и возмутила его до глубины души».
Луша была сверстницей и товарищем его детских игр, она выучилась с помощью Ивана грамоте и потихоньку перечитала всю лутовиновскую библиотеку. Чтение расширило умственный горизонт деревенской девушки, и у нее появился свой собственный взгляд на окружающую действительность, отличный от существующих реалий. Однажды Варвара Петровна жестоко наказала розгами своего дворового человека. Луша неожиданно высказала крестьянам порицание барской жестокости. Протест девушки дошел до ушей Варвары Петровны. В наказание ей отрезали косу и заставили пасти гусей. Но это наказание не смутило «строптивую». При всяком удобном случае Луша, как доносили барские доносчики, «несла мужикам всякие непотребные небылицы». Встречаясь с крестьянами в поле или в лесу, Луша не упускала случая поговорить с ними «по душам».
– Нет от Бога такого закона, чтобы человек владел человеком, – говорила Луша. – Закон этот придумали господа, потому что он для них выгоден. А перед Богом все люди равны, никакой разницы нет, если они живут по Его воле…
– Бунтует девка! – доложили Лутовинихе. – Сущая язва! Зараза!
Варвара Петровна испугалась не на шутку, когда ей к тому же доложили, что бабы, наслушавшись «Лушкиной брехни», отказались доставлять для барского двора грибы и ягоды и сбыли весь сбор их в городе.
– Продать негодяйку! – приказала барыня.
Лушу продали, по домашней запродажной записи, соседней помещице, которую за жестокость мужики прозвали «Медведицей», но Луша еще не была вывезена из Лутовинова.
Иван Сергеевич отважно заявил матери, что продажи Луши ни в каком случае не допустит и спрятал девушку в одной надежной крестьянской избе. Покупательница, осведомленная о вмешательстве Ивана Сергеевича, обратилась к уездной полиции за содействием к получению купленной «крепостной девки Лукерьи», заявив, что-де «молодой помещик и его девка-метреска бунтуют крестьян». В Спасское-Лутовиново, для усмирения «бунта», немедленно полетел капитан-исправник.
Однако 19-летний Тургенев и исправнику заявил, что он Луши не выдаст. Услышав такое заявление, исправник, поддерживаемый Варварой Петровной, собрал из жителей окрестных селений толпу «понятых», вооруженных дубинами, и во главе ее отправился к дому, в котором укрывалась девушка. Но Иван Тургенев встретил исправника на крыльце этого дома с ружьем в руках.
– Стрелять буду! – твердо заявил Иван Сергеевич. Тут юноша сумел проявить силу и твердость характера, как в отношении матери, так и полицейских властей.
Понятые отступили, а исправник не знал, что делать.
Вероятно, финал мог быть печальным, если б не вмешалась Варвара Петровна.
– Пусть девка остается, коли она ему так нужна, – махнула она рукой, – а кровопролития не надо… Я плачу неустойку…»
Таким образом, кровавое столкновение было отвращено. Однако было возбуждено уголовное дело «О буйстве помещика Мценского уезда Ивана Тургенева», которое тянулось долгие годы, вплоть до отмены крепостного права.
* * *В эти молодые годы Иван Сергеевич пристрастился к охоте. Сначала спутником его охотничьих странствий был дядя Николай Николаевич, но однажды в окрестностях Спасского Тургенев встретился с крестьянином-охотником Афанасием Алифановым, которому суждено было стать верным спутником и другом писателя на долгие годы.
Во время своих охотничьих странствий обошел Иван Сергеевич все окрестные деревни. На всю жизнь сохранились у него воспоминания о красоте и радости деревенского быта в окрестностях Спасского. Вот как довольство дореформенной русской деревни описал Тургенев много позднее в одном из своих «Стихотворений в прозе»:
«Последний день июня месяца: на тысячу верст кругом Россия – родной край.
Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь… воздух – молоко парное!
Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают ж жуют; собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.
И дымком-то пахнет, и травой – и дегтем маленько – и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.
Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщепленные ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба – синеватая черта большой реки.
Вдоль оврага – по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.
Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно!
Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.
Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, – зубоскалят.
Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.
Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца… Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли.
Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах.
Крупные дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана желтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.
Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается все морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка… а и теперь еще видать: красавица была в свое время!
Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба: «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»
Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой теленок.
– Ай да овес! – слышится голос моего кучера.
О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать!»
Надо отметить, что хотя хозяйкой Варвара Петровна была самовластной и жестокой, но жили ее крестьяне в довольстве, и даже в неурожайные годы не голодали. Все изменилось после освобождения крестьян в 1861 году – многие крестьянские хозяйства пришли в упадок по причине бесхозяйственности и пьянства, а в неурожайные годы стал случаться повсеместный голод.
* * *В детстве и юности характер у Ивана был добрый и ласковый. По собственному признанию с раннего детства боялся он своей матери «до смерти», однако уважал и любил ее. Видно верным тут оказалось известное высказывание: «Боится, значит уважает!» По воспоминаниям Варвары Житовой не единожды Иван Сергеевич изъявлял своей матери знаки искренней сыновьей преданности и внимания. Так в 1838 году, когда Варваре Петровне сделали операцию, все домашние удивлялись тому, какими нежными заботами двадцатилетний Иван окружил свою мать, просиживая целые ночи у ее постели…
В другой раз Варвара Петровна поехала проверить посевы на полях, и тут разразилась сильная гроза. Иван Сергеевич страшно разволновался, не находил себе места и уже решился ехать разыскивать ее. Но, к счастью, тут раздался стук приближающегося экипажа: Иван Сергеевич кинулся к карете, вынес мать на руках и усадил ее в кресло, а потом беспрестанно ощупывая ее платье и ноги, все переспрашивал: «Не промокла ли ты, маман? – и целовал ее руки. «Ну, слава богу, что ничего не случилось, а то я боялся, что лошади понесут…» – и опять целовал ей руки.
В одну из зим приехал в Москву Лист. Один из своих концертов давал он не в дворянском собрании, а в чьем-то частном доме. Варвара Петровна, выезжая весьма редко, захотела однако послушать великого артиста. С нею поехал и Иван Сергеевич. Лестница, ведущая в концертный зал была высокая, а кресло на ремнях, на котором обычно лакеи вносили ее по лестнице, не было взято. Ноги Варвары Петровны тогда уже пухли и были слабы, взойти так высоко и думать нечего было. Глаза Варвары Петровны блеснули гневом на недогадливых лакеев. «Я тебя внесу на руках, маман», – сказал Иван Сергеевич и не дождавшись ни согласия, ни возражения, в тот же момент схватил ее на руки, внес по лестнице и поставил почти у входа в зал. Многие из публики были свидетелями этой сцены. Поднялся шепот удивления и умиления. Нашлись многие, которые подходили к Варваре Петровне и поздравляли ее со счастьем иметь такого внимательного и нежного сына.
Варвара Петровна умела вымуштровать всех окружающих – дворню, крестьян, любовников, детей, нахлебников, но все они относились к ней с подобострастным уважением. Иван с детства был маменькиным фаворитом. В письмах она его так и называла «моим Вениамином», что в переводе означало «любимый сын». Однако это не мешало ей нещадно тиранить своего любимца, не меньше, чем остальных. Известно, что вплоть до материнской кончины, Иван был под сильным психологическим прессом с ее стороны. Как ни странно, но мать скрывала даже настоящий возраст сына, и Тургенев долго считал себя годом моложе. Только после смерти матери, в 1852 году, найдя книжечку с ее записями, он узнал, что родился 28 октября 1818 года – и сразу же стал на год старше: «Итак, мне исполнилось все тридцать четыре. Черт, черт, черт – так значит, я уже не молод, отнюдь, отнюдь – наконец-то!».
Оба сына Варвары Петровны, и Николай и Иван, были дружны между собой, но разница в их характерах была огромная. Ивана отличался необыкновенно добродушным, безобидным юмором, а Николай был насмешлив и не прочь при случае уколоть и даже серьезно подсмеяться. Иван искал, кому бы сделать добро, Николай не отказывался его сделать при случае и по просьбе. Речь Ивана была не совсем плавная, он пришепетывал и иногда точно подыскивал выражения, но всегда она была ласковая, какая-то сердечность сквозила в каждом ее слове, голос его был необыкновенно мягкий, симпатичный. Слышавший его раз, никогда его не забывал. Речь же Николая была необычайно цветиста и громка. Властная, своенравная, но прозорливая Варвара Петровна говорила сыновьям: «Не будет вам счастья, потому что оба вы у меня однолюбцы!»

Иван Тургенев во время обучения в Берлинском университете, 1838 год
4. Берлинские университеты
В 1838 году Иван сдал в Петербургском университете экзамены на кандидатскую степень и на семейном совете было решено, что он продолжит свое обучение в Берлинском университете.
Перед самым отъездом в Петербург в Спасском случилась неприятная история. Иван и дворовый Порфирий возились во флигеле – хохотали и кидались друг в друга диванными подушками. Привлеченная шумом в комнату вошла мать, вошла, как раз в тот момент, когда подушка, пущенная Порфирием, летела прямо в лицо Ивана Сергеевича. Тотчас она отдала приказание – проучить холопа и высечь его на конюшне плетьми. Никакие заступничества, никакие просьбы и мольбы со стороны сына не помогли и не заставили ее сменить гнев на милость и отменить решение… Это был еще один тяжелый эпизод, который укрепил Ивана в его ненависти к крепостному праву, означавшую беспредельную власть одних при полном бесправии других.
В мае 1838 Тургенев отправляется в Германию. Одним из побудительных мотивов к этой поездке оказалась четко сформировавшаяся к этому времени ненависть к крепостному строю: «Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге, – писал впоследствии Тургенев, – либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал… Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн – я все-таки очутился «западником», и остался им навсегда. Мне и в голову не может прийти осуждать тех из моих современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, к которой я стремился… Я только хочу заметить, что я другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться… Это была моя аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда».
15 мая 1838 года 19-летний Тургенев садится на пароход «Николай I», который следует из Кронштадта в Любек. Но по пути произошло страшное и непредвиденное, в ночь с 18 на 19 мая на пароходе случился грандиозный пожар, в результате которого погибла часть пассажиров, а корабль полностью сгорел. Никто не смог бы описать этого события ярче, чем это сделал сам Тургенев. Правда, сделал он это много позднее, в июне 1883 года, за 2,5 месяца до смерти.
«…Началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чувствовалось, что отчаянное чувство самохранения охватило все эти человеческие существа и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять моих слов за серьезное, высвободился от меня; в это время я приблизился к левому борту корабля и увидел нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнах, как игрушка; два находившиеся в ней матроса знаками приглашали пассажиров сделать рискованный прыжок в нее – но это было не легко… Наконец я решился… Женщина уцепилась мне за шею и недвижно повисла на мне…Толчок чуть не сбросил нас обоих в море, но, к счастью, тут же, перед моим носом, болтался, вися неизвестно откуда, конец веревки, за который я уцепился одною рукою, с озлоблением, ссаживая себе кожу до крови… потом, взглянув вниз, я увидел, что я и моя ноша находимся как раз над шлюпкою и… тогда с богом! Я скользнул вниз… лодка затрещала во всех швах… «Ура!» – крикнули матросы. Я уложил свою ношу, находившуюся в обмороке, на дно лодки и тотчас обернулся лицом к кораблю, где увидел множество голов, особенно женских, лихорадочно теснившихся вдоль борта. «Прыгайте!» – крикнул я, протягивая руки. В эту минуту успех моей смелой попытки, уверенность, что я в безопасности от огня, придавали мне несказанную силу и отвагу, и я поймал единственных трех женщин, решившихся прыгнуть в мою шлюпку, так же легко, как ловят яблоки во время сбора…»
Те, кому посчастливилось добрались до берега, а пароход «Николай 1» полностью сгорел: «…Наш пароход медленно догорал. Я именно говорю «догорал», потому что я никогда бы не поверил, что такая «махинища» может быть так скоро уничтожена. Это было теперь не более, как широкое пылающее пятно, недвижимое на море, изборожденное черными контурами труб и мачт и вокруг которого тяжелым и равнодушным полетом сновали чайки, – потом большой сноп золы, испещренный мелкими искрами и рассыпавшийся широкими кривыми линиями уже по менее беспокойным волнам».
«…Я добрался до Любека на заре; тут я встретил своих товарищей по крушению, и мы отправились в Гамбург. Там мы нашли двадцать тысяч рублей серебром, которые император Николай, как раз находившийся тогда проездом в Берлине, прислал нам со своим адъютантом…»
* * *Берлин тридцатых годов был небольшим, довольно тихим, скучным и весьма добропорядочным городом. Король смиренно благоговел перед российским императором Николаем; жители города вставали в шесть утра, работали целый день, а в десять ложились спать, и одни «меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитались по пустым улицам, да какой-нибудь буйный и подгулявший немец брел из Тиргартена, и у Бранденбургских ворот тщательно гасил свою сигарку, немея перед законом». То есть жили немцы согласно протестантскому учению Лютера: «Работа предполагает здоровье и благополучие».
Но здесь процветала наука. Берлинский университет был хорошо организован и привлекал студентов из разных стран. В то время сохранялись еще романтические отношения между учащими и учащимися: профессор считался учителем жизни, как бы ее духовным вождем. Ему разными способами выражали поклонение и восторг. Студенты, например, исполняли серенады, то есть нанимали музыкантов, вечером собирались у дома любимого профессора и после увертюры пели песни в честь науки, университета и преподавателей. Профессор выходил и в горячей речи благодарил поклонников. Подымались крики, студенты бросались с рукопожатиями, слезами и т. п.
Тургенев приехал в Берлин вместе со своим дворовым Порфирием.
Он вспоминал свое с Порфирием житье в Берлине (в записи Л. Н. Майкова. 1880 г.): «В конце 1830-х годов матушка, уже тогда бывшая вдовою, послала меня за границу. В менторы или дядьки ко мне был приставлен один из наших дворовых, бывший у нас фельдшером. С ним я явился в Берлин и тут только убедился, какую обузу мне навязали в этом служителе при совершенном его незнании немецкого языка. Сколько припомню, я, несмотря на свои 21–22 года, был еще совсем мальчуган. Судите сами: то я читал Гегеля и изучал философию, то я со своим дядькой забавлялся – и чем бы вы думали? – воспитанием собаки, случайно мне доставшейся. С собакой этой возня у меня была пребольшая: притравили мы ее к крысам. Как только, бывало, скажут нам, что достали крысу, я сию же минуту бросаю и Гегеля, и всю философию в сторону, и бегу с дядькой и с своим псом на охоту за крысами. Впрочем, с дядькой я жил полным приятелем, и, бывало, строчил ему на немецком языке любовные письма к его возлюбленной. Отправились мы потом с ним в Швейцарию, и всюду он поражал меня необыкновенным своим аппетитом. В Швейцарии я его оставил в одном городке, а сам купил себе блузу, ранец, палку, взял карту и отправился пешком в горы, не наняв себе даже гида. Это, впрочем, привело к тому, что путешествие мое обошлось весьма и весьма недорого и было не в пример приятнее».