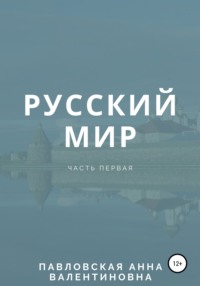Полная версия
Съедобная история моей семьи
То есть соседи моих предков были не поляки, как они их называли, а белорусы, впрочем, и это название здесь условное. Вопросы, связанные с формированием этнических общностей, подобно вопросам о происхождении слов, это всегда гадание на кофейной гуще, только еще и изрядно приправленное политическими моментами. Вот и единого мнения о происхождении белорусов нет. Существует насколько распространенных концепций. В Российской империи долгое время была принята версия, что территории, занимаемые белорусами, исконно русские, а в Польше, – что они истинно польские. Существовала также идея, что белорусы – потомки летописных племен кривичей или их конгломерата с соседними племенами. Самая популярная концепция в советское интернациональное время заключалась в том, что единая древнерусская народность разделилась с течением времени на три части – великороссов, малороссов (украинцев) и белорусов. Некоторые исследователи выводят происхождение белорусов от балтов, смешавшихся со славянскими племенами, есть даже сторонники их финно-угорского происхождения. Название «белорус» позднее, широкое распространение оно получило после присоединения земель к Российской империи в XVIII веке (кстати, смоленские земли тоже долгое время относили к этому ареалу, даже в 1919 году они на несколько дней оказались в составе Советской Социалистической Республики Белоруссия). Долгое время белорусов называли литвинами, руссо-литвинами, литовцо-руссами – и как самоназвание оно долго жило в народах, заселявших северо-западный край России.
Подтверждаются наблюдения тети Тоси и о различии в говорах. Исследователи утверждают, что белорусские особенности русского говора заключаются в частности в замене звуков «ц» и «щ» на «с» и «з». Описание белорусских жителей Смоленщины за 1857 год содержит следующее наблюдение: «Язык их не чисто Великорусский, а какая-то смесь с Белорусским и Польским. Резкая твердость языка Польского и полнозвучие речи русской сливаются и, перемешиваясь между собою, образуют какой-то особенный, странный для непривычного уха говор». Еще более яркие примеры встречаем в словаре В. И. Даля: «Дзекать – произносить дз вместо д, как белорусы и мазуры… Как ни закаивайся литвин, а дзекнет. Только мертвый литвин не дзекнет». «Нацокать – Литвин нацокает, что и не разберешь его. Поколе жив смолянин, не нацокается».
Статистические труды и сборники XIX века приводят интересные цифры, согласно которым на территории Смоленской губернии в то время проживало 46 % великороссов и 54 % белорусов, причем в Ельнинском уезде белорусы составляли более 90 %! А вот Первая Всероссийская перепись населения 1897 года дает совсем другие данные: белорусов «стало» меньше одного процента, подавляющее же большинство жителей русских. Вот и верь после этого статистическим данным…
Многое намешано-перемешано на русской земле, поди разберись.
Памятная книжка Смоленской губернии за 1857 год с беззастенчивым шовинизмом приводит следующие различия между двумя главными народами, ее заселяющими. «Великорусы»: «они деятельны, бодры, свежи, дородны, зажиточны и опрятны. Сметливость, деятельность, заботливость об участи своего семейства, изворотливость при отыскании средств к жизни» – их отличительные черты. Там, где преобладает «белорусский элемент», жители «малорослы, мешковаты; хозяйство их скудно; одежда неопрятна». Хотелось бы верить, что не только костюмом и говором жители Покровки относились к великороссам, но и чертами характера. Кстати, роста они были высокого и очень статны.
Сохранившиеся малочисленные фотографии моих предков, а также лица моих близких и родных отчетливо указывают на принадлежность к определенному антропологическому типу. Я старательно, как дотошный исследователь, изучала типы лиц по разным российским регионам. Непростое и неблагодарное это дело, антропология: изучив карты и рисунки, я так и не смогла точно определить, к какому типу или хотя бы к какой географической зоне относилась деревня Покровка – то ли Верхнеокской, то ли Валдайской, к тому же река Угра, на которой она стояла, – рубежная, делящая эти самые зоны. Предки мои имели вполне определенный тип лица, тонкие губы, тонкие, редкие, какие-то серые волосы, прищуренные, довольно бесцветные глаза (серые? светло-голубые?), выступающие скулы, крупные складки на щеках – и бабушкины и дедушкины родственники по этой линии удивительно похожи между собой и мало похожи на украинский и южнорусский тип. Бабушкина линия более «монголоидная» – чуть приплюснутые круглые лица, узкие глаза, дедушкина по мужской линии имела вытянутые головы с двумя характерными высокими залысинами.
Из семейных рассказов создается впечатление, что предки моего отца испокон веков крестьянствовали на смоленской земле. Трудно спорить и с академиком Рыбаковым, и с лингвистическими данными, относящими фамилии с «-ченк» и «-щенк» (т. е. и Фотченковых и Фатющенковых) к украинским или белорусским. Окончание «-енков» часто встречается и у донских казаков. Видимо, здесь сказалось влияние соседей. Первая фамилия, скорее всего, происходит от имени Фотий, только вместо Фотиевых или Фатеевых получились мои предки на западнорусский манер – Фотченковыми. С Фатющенковыми потруднее, вариантов здесь больше. Вероятно, фамилия произошла от прозвища. В словаре Даля есть слово «фатюй, фатюк, фетюк – фофан, разиня, простофиля», есть «хват – молодец, удалец, храбрец, ловкий, бойкий, смелый, расторопный». Словом, выбирай на свой вкус. Фамилии от прозвищ более древние, чем от имен, а «-ющенковыми» они могли стать под юго-западным влиянием.
Издревле, согласно «Повести временных лет», смоленские земли были заселены славянским племенем – кривичами. Монашествующий автор летописи, обозвав их язычниками, не слишком благосклонно отзывался об их нравах. Подобно прочим языческим племенам, кривичи «жили в лесу, как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и сходились на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними; имели же по две и по три жены. И если кто умирал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду, и возлагали на эту колоду мертвеца, и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд и ставили на столбах по дорогам».
В XII веке Смоленское великое княжество переживает взлет, потом падение. Татаро-монгольского ига избегает. Зато позднее подвергается многочисленным набегам, несколько раз переходит из рук в руки: в XV–XVI веках смоленские земли находились под властью Великого княжества Литовского, в XVII вошли в состав Речи Посполитой, с 1654 года окончательно и бесповоротно стали частью России.
Деревня Покровка была расположена на высоком берегу Угры, окружена густыми лесами и болотами. По рассказам, там даже и грибов-то было мало, слишком болотистая местность, надо было идти за несколько километров («километрах в пяти от деревни в сосновом бору водились отличные белые!» – утверждала родившаяся там Тося). Река Угра была чертой пограничной, за важное оборонительное значение ее иногда называют «Поясом Богородицы»; мой папа гордился этим, как и всем, что связано с местами проживания его предков.
Покровка – название очень распространенное на Руси. Чаще всего деревни называли по названию храма – Покрова Пресвятой Богородицы. Но в нашей деревне церкви никогда не было. По воспоминаниям бабушки, идти в ближайшую церковь в село Щекино было далеко, километров десять, и сложно, особенно в весеннюю распутицу или осеннюю непогоду. Она отмечала, что чаще шли женщины и дети, мужчины отлынивали. Считается, что название Покровка в данном случае напрямую не связано с церковным. В словаре В. И. Даля, составленном в середине XIX века, есть такое значение слова «покров»: «Защита, заступленье, заступничество, застой, покровительство. Господь покров мой. Птенцы растут под покровом матери». Местоположение и правда было защищенным – поди доберись до этой Покровки по болотам и бездорожью! Жаль это не спасло ее – в годы Великой Отечественной войны деревня была полностью уничтожена (сжигали трижды, первые два раза жители еще пытались ее восстановить).
Согласно «Списку населенных мест по сведениям 1859 года», в деревне Покровка проживало: 8 дворов, мужчин 57, женщин 62 (ну почему по всем статистическим данным на Руси женщин всегда больше, чем мужчин?). Семьи были большими, по 14–15 человек в каждой. Там же указывается, что иначе деревню называют Ураги (с ударением на а) или Овраги. Деревня была помещичья, крестьяне – крепостные.
Старейшая семейная история рода Фатющенковых-Фотченковых относилась опять же к иноземному нашествию, и рассказывала ее, если верить все той же Ефросинье Ивановне, столетняя старуха, жившая в деревне. Шел 1812 год. К деревне приближались французы. Испуганные жители спрятались в гумне, «где лен обрабатывали». Молодой женщине не дали взять с собой грудного ребенка, так как он плакал, и крестьяне боялись, что он всех их выдаст. Она была вынуждена согласиться с общим мнением и оставить его. Когда же все стихло и жители вылезли из своего укрытия, то обнаружили, что ребенок жив и здоров, а на колыбельке висит очень красивый французский платок с кистями – подарок французских солдат матери. Столетняя бабка особо подчеркивала, что платок был французский, очень красивый, «мы их уже знали тогда». Откуда, хотелось бы знать? Я всегда подозревала, что изолированность русских крестьян от жизни была всего лишь мифом.
Эта история имела продолжение уже в наши дни. Ее очень полюбила моя мама, рассказчица и сказительница по натуре. В ее исполнении она звучала гораздо интереснее и радостнее, чем в оригинале. Женщина не оставила ребенка сознательно, а забыла в суматохе, а потом уже было поздно. Она рвалась, плакала, но ее не пустили. А ребенок не просто был живой, но и накормленный, довольный, и помимо платка рядом с колыбелькой стояла бутылочка с молоком. Словом, все подробности делали историю более человечной и гуманной, хотя и менее правдоподобной. Рассказывать и пересказывать хорошие истории мама всегда очень любила. Благодаря ей этот случай, как и многие другие, стал достоянием общественности. Однажды она рассказала ее французам, пришедшим к нам в гости. Они так впечатлились, что через некоторое время прислали ей в подарок шелковый платок. Французские поклонники талантов моей матери провели специальное историческое расследование, чтобы выяснить, какой именно полк мог проходить через смоленскую деревню. И в военно-историческом музее заказали платок, точную копию такого, какой был в ходу у этого полка.
Отец моего папы, мой дед Иван Никитич Фатющенков (1893–1941), происходил из зажиточной деревенской семьи. Легендарным главой ее был его отец Никита Иванович (1870–1934), называемый во всех семейных историях «дед Никита». Судя по рассказам, человек сильный, жесткий, как говорили в деревне – настоящий хозяин, такой, кто и сам отдыха не знал, и другим послаблений не давал.
В молодости он прошел всю Сибирь, строил Транссиб, потом вернулся домой, женился на Ирине Степановне (ок. 1872–1943) из своей же Покровки, завел семью, стал хозяином. Было у него два сына – Филипп и Иван и три дочери – Елена, Наталья и Федосия.
Вся большая семья находилась у него в подчинении. Моя бабушка, будучи уже 90 лет от роду, нередко с затаенной обидой вспоминала, как в 18 лет, выйдя замуж, попала в его крепкий и хозяйственный дом. Больше всего дед Никита не любил праздность. А его невестки и дочери по молодости очень любили поболтать вечерком, когда вся работа была уже сделана. Если же их заставал за болтовней хозяин дома, наказание было очень простым – они переносили с места на место поленницу дров. Работа была бессмысленной, но возражать ему никто не смел. Хороший хозяин, он понимал, что праздность – мать многих грехов и бед, но как же было обидно молодым девкам делать ненужную работу вместо того, чтобы спокойно поболтать после окончания трудов крестьянских.
Первая жена моего дедушки Ивана Никитича в 1915 году умерла от родов. Она долго мучилась, и вся семья просила деда Никиту дать лошадь, чтобы отвезти ее в больницу, но он был тверд – время было горячее, лошади нужны в хозяйстве, а баба и так родит, не первая, не последняя. А она умерла, оставив новорожденного мальчика, которого назвали Павел, и растила его уже моя бабушка Ирина. Она сделала для мальчика все, Павел любил и уважал ее всю жизнь, но все равно был пасынком; бабушка моя была человек простой, цельный и бескомпромиссный: свое – это свое.
Отвлекаясь от юных обид, бабушка с гордостью рассказывала о замечательном хозяйстве, которое было у строгого деда Никиты. Коровы, лошади, земля, дом на высоком берегу Угры, в самом красивом месте деревни. Он остался в памяти своей семьи настоящим хозяином, сильным человеком с богатырской мощью. Умер дед Никита нелепо: маленький мальчик Паша невольно отомстил ему за смерть матери. Ребенок заболел дизентерией, ему сварили куриный бульон, которым тогда лечили разного рода заболевания, он съел несколько ложек и отказался. Дед Никита, хозяин во всем, возмутился, что хороший продукт хотят вылить, и доел за ребенком. В результате мальчик выздоровел, а крепкий, сильный и здоровый дед Никита умер.
Его сын, Иван Никитич, мой дед, в 1918 году женился вторым браком на моей бабушке Ирине Ивановне Фотченковой. Ее отец, Иван Анисимович (умер до войны, в возрасте 65 лет), судя по всему, тоже был личностью интересной, хотя и совсем другого склада, чем дед Никита. С женой Акулиной Прокофьевной (ок. 1873 – погибла в начале 1942 года) и семьями своих сыновей (у него было 5 сыновей и 3 дочери) он уехал из деревни на отруб, на что в то время решались немногие, все-таки надо было иметь смелость выделиться из деревни, в каком-то смысле пойти наперекор обществу. Завел там знаменитую пасеку, благодаря которой был известен в округе. Все, кто приезжали в деревню, врачи, начальство, обязательно заезжали к нему – поговорить и хорошим медом разжиться.
Любимым бабушкиным братом был Андрей. Трагически, хотя и героически, сложилась судьба его сына Петра. До войны он закончил педучилище, потом заочно институт, преподавал в школе (любовь к преподаванию, похоже, была в крови у многих наших смоленских родственников). Еще до начала войны Петр Андреевич был призван в армию, закончил в Бобруйске военное училище. В самом начале войны попал в окружение, подался к партизанам, был заместителем командира в партизанском отряде. И погиб на глазах у родной деревни, расстрелянный карательным отрядом. По рассказам, история была сродни античной трагедии: каратели долгое время не разрешали родным похоронить своего героя.
Не так давно в списке погибших в войну, опубликованном Министерством обороны, нашла еще Фотченкова Нила Ивановича, родившегося в Покровке, проживавшего в Щекино и пропавшего без вести в 1943 году. Жена его в 1948 году на свои многочисленные запросы получила ответ, что, по свидетельству однополчан, он был ранен, взят в плен и умер в Германии в плену (интересно, откуда эти подробности могли знать его товарищи по оружию?). Судя по всему, это тоже один их бабушкиных братьев.
В Покровке у дедушки Ивана и бабушки Ирины родилось двое детей – Александр и Ефросинья. Дед мой, Иван Никитич, был человек, судя по рассказам, незаурядный. Крестьянствовал он, как я понимаю, немного. В Первую мировую участвовал в Брусиловском прорыве, получил Георгиевский крест и дворянское звание (ненаследственное, тогда многим его давали за воинские заслуги, что породило сейчас больше «дворян», чем было на самом деле).
В Гражданскую тоже воевал, был ЧОНовцем – бойцом частей особого назначения, созданных в 1917 году для оказания помощи советской власти в борьбе с контрреволюцией. Возможно, именно тогда получил специальность строителя (тетя Тося с гордостью рассказывала о его умении составлять сложные сметы).
В 1931 году семья Ивана Никитича переехала в Донбасс, на Украину, на заработки. Там в 1935 году родился младший сын, горячо любимый всем семейством, мой отец – Валентин. Во время регистрации получился конфуз – в свидетельстве о рождении его записали на местный манер: Фатющенко. Как могли это не заметить его родители, до сих пор загадка для всей семьи. Но факт остается фактом – все его родственники имели «-ков» в окончании, лишь он один остался на всю жизнь «-ко». Хорошо, что у моей бабушки не было никакого наследства, иначе у отца могли бы возникнуть серьезные проблемы. Мой брат Андрей, получая в 16 лет паспорт, захотел вернуть себе фамилию предков, однако ему это не удалось. Районный ЗАГС потребовал от него массу документов – свидетельство о браке дедушки и бабушки (думаю, его никогда и не было), свидетельство папы о рождении и т. д. Довод, что все сгорело в Великую Отечественную войну, начиная от деревни и заканчивая ельнинскими архивами, ни на кого не подействовал, и ему в конце концов было отказано.
Дед мой умер в феврале 1941 года при загадочных обстоятельствах – он, здоровый и сильный, выпал из поезда. Или столкнули? Но тогда некогда было разбираться. Семья его к тому времени жила в уездном городе Ельня Смоленской области, где он работал и, судя по всему, неплохо по тем временам зарабатывал, даже посылал деньги родственникам в родную Покровку. Тетя Тося жизнь в Ельне вспоминала с удовольствием: жили в центре, на-против городского сада, город был небольшой, уютный, утопал в зелени, в центре был устроен живописный пруд. Именно в Ельне застала Великая Отечественная война бабушку, оставшуюся одной с четырьмя детьми. Два сына были уже взрослыми – Павел, работавший до войны учителем математики, пошел в армию еще до начала военных действий. Александр (1922 г. р.), бабушкин старший сын, ушел защищать родину в 1941 году добровольцем, не дожидаясь призыва, 19 лет от роду.
Дядя Шура, как мы его называли в семье, воевал под Ельней, защищал Сталинград, прошел всю Европу, брал Вену, сражался на озере Балатон, закончил войну в Праге. Был ранен. Вернулся домой, увешанный орденами, которые надевал в День Победы. Не так давно Министерство обороны сделало достоянием гласности много документов военных лет, в том числе и о награждениях. Именно на сайте этого министерства я обнаружила фотокопии уникальных документов – от руки написанные представления к наградам. Трогательным по простоте и искренности языком там говорится о том, что «в боях за город Сталинград гв. л-т Фатющенков А. И. проявил исключительную храбрость и мужество», за что 12.10. 1942 награждается орденом Красной Звезды. Из Представления (текст сохранен полностью): «Вклинившись в оборону противника он с 8 бойцами был отрезан от своей части. Не растерявшись, он умело организовал круговую оборону, в результате чего было отбито несколько атак фашистов. В одной из атак гв. л-т Фатющенков был ранен, но продолжал руководить боем. 4 часа горстка храбрецов во главе с ним в окружении отбивались от немцев. Когда иссякли боеприпасы гв. л-т Фатющенков с боем прорвался в расположение своих частей. Лично уничтожил 32 немца. За находчивость, мужество и смелость гв. л-т Фатющенков А. И. достоин правительственной награды ордена “Красной Звезды”». Напомню, было герою 20 лет.
Дядя Шура был человеком исключительной доброты и честности. Была у него одна слабость, свойственная русскому человеку вообще, а героям войны, не нашедшим себя в мирной жизни, в особенности – алкоголь. Работал он много и честно. После армии, как боевой офицер, был направлен в партшколу, учился. Работал на руководящей должности в райисполкоме. Потом по заданию партии поехал в колхоз, укреплять сельское хозяйство. Только никакого укрепления особенно не получилось. Как рассказывала тетя Тося, не было ничего – ни техники, ни лошадей, ни средств. «Да и кого послали, Шуру, какой он специалист? В деревне он что?» – вздыхала она.
Последние годы Александр Иванович жил с матерью и сестрой, был тихим, скромным, читал книги о войне, выполнял всю мужскую работу по дому, доедал то, что уже никто не ел (типичный разговор: «А это что, несвежее?» – «Оставь, Шура съест»). Для него просто не имело значение, что он ест. Он относился к тому поколению, которое так и осталось навсегда связано с войной. На войне была жизнь, был подвиг, были друзья, были настоящие чувства, отношения, все было ясно и понятно. А в мирной жизни надо было приспосабливаться, хитрить. Вот и жил он памятью о войне. Как ветерану, ему полагался бесплатный отдых в санатории раз в год и бесплатный билет до Волгограда – Сталинграда, куда он, счастливый и нарядный, ездил раз в году встречаться со своими фронтовыми товарищами.
Умер дядя Шура сразу после смерти сына, погибшего при трагических обстоятельствах – по официальной версии, он покончил жизнь самоубийством (но кто делает это, перерезая себе горло?!). Дядя Шура сразу потерял интерес к жизни, зачах. А так, наверное, жил бы себе, несмотря на ранения и проблемы, ведь русский народ живучий по натуре.
Бабушка в войну осталась с дочкой Ефросиньей, 14 лет, и моим папой Валей, 6 лет. Что было делать? Оставалось одно: возвращаться на родину, в Покровку, в дом, где жила семья мужа. И вовремя – почти сразу после ухода их дом в Ельне разбомбили фашисты. До деревни больше 40 километров, шли пешком. Поселились сначала в добротном дедовском доме, делили его с семьей старшего сына деда Никиты, Филиппа. Интересно, что, несмотря на трагизм времени, и мой отец, и тетя Тося с восторгом вспоминали этот старый дедовский дом, стоявший на высоком холме над Угрой.
Пережили в Покровке все, что только было можно: оккупацию, набеги карателей, страшный голод, жизнь в землянке в лесу. Край был боевой, партизанский. Тетя Тося не без затаенной гордости рассказывала, что немцы к ним практически носа не совали, засылали только карательные отряды. Маленькому папе прострелили руку. Выжили. Дети еще и выучились, несмотря ни на что. Всю жизнь они буквально боготворили свою мать, в прямом смысле надрывавшуюся, чтобы прокормить их. Ей приходилось даже просить милостыню, когда не было других путей накормить своих детей, но об этом говорилось вполголоса, как о чем-то очень страшном для русского человека.
Понятен подвиг солдата, сражающегося с врагом и совершающего геройские поступки во время боя. Сейчас много и правильно говорят о подвиге тыла, о тех, кто денно и нощно работал на заводах, поставляя технику и боеприпасы фронту; на полях, кормя огромную армию. Но есть и незаметные подвиги – например, подвиг моей бабушки, выжившей в страшных условиях и спасшей своих детей, которым потом предстояло всю жизнь честно работать на благо своей страны. Это не просто громкие слова, в данном случае – это правда.
Мы сейчас мало представляем смысл слова «голод», который еще относительно недавно был понятен и близок населению нашей страны. Это не просто нехватка определенных продуктов, это когда нет НИЧЕГО. Голод наша крестьянская страна переживала с «завидной» регулярностью, а в XX веке особенно часто. Это именно то, что пережили родные моего отца и он сам. Даже во время войны не всем выпадал этот страшный, всеобъемлющий голод. Папа был человек ироничный и в каком-то смысле склонный к юродству по натуре. Семье никогда ничего особенно страшного про войну не рассказывал, как всякий русский он не любил пафоса. Но однажды моему брату Андрею рассказал, как мать оставила его в чужом доме и ушла искать хоть какую-то еду, а он лежал в сенях на лавке и кричал от голода несколько дней, и никто к нему не подходил. А потом всю жизнь помнил «Кусок драгоценного хлеба / В худых материнских руках» (из его стихов). Нам, слава Богу, трудно представить настоящий голод во всем его вековом и неизбывном ужасе, но многое в русской традиции связано со страхом перед ним.
Деревню Покровка сжигали несколько раз и в конце концов сожгли совсем. Нет ее, не осталось ничего. Мой брат Андрей много лет мечтал поехать посмотреть, что осталось от нашего «родового гнезда». Но дорог там нет, вокруг болота, не найти уже этого места. Однако удивительным образом Покровка осталась жить в сердцах: моего отца, посвятившего ей немало лирических стихотворений, и тети Тоси, рассказывающей с гордостью о красивом «богатом» доме, и даже тех, кто, как мы с братом, никогда не видел и уже не увидит ее, но хранит ее в душе как родину предков, «родное пепелище».
Война – это тоже жизнь. Папа всегда вспоминал грустного немца, который поделился с ним, маленьким голодным мальчиком, булкой (эта трогательная история тоже дошла в обработке моей мамы). А еще в войну он научился читать и писать. И в «школе» – маленьком домике в лесу, где прятались жители после разгрома деревни, – прошел четыре первых класса за два. И там же (о, этот странный русский народ!) прочитал Достоевского, Пушкина, Маяковского, «Историю русской литературы XVIII века» и многое другое. Откуда эти книги взялись в лесу? Бог знает… Но русская литература стала папиной судьбой.
Нелегкое это дело – поиск предков. Хорошо тем, у кого корни дворянские. Сколько их всего и было-то на всей Руси великой, все в дворянские родословные уместились, изданные-переизданные. Но так уж получилось, что большая часть населения нашей страны имеет корни крестьянские, а здесь начинаются трудности. Не только род крестьянский проследить непросто, но даже и историю деревни не всегда найдешь. Сколько карт, столько и вариантов на тему. Например, на двух картах XVIII века, выпущенных с разницей в 10 лет, совпадение населенных пунктов Ельнинского района где-то 20 процентов. Трудно представить, что за это время исчезло такое количество и появилось столько же новых. Проблемы картографии, неточности, ошибки, разные варианты названий – все имеет место. Зато трудно передать, какая радость охватывает тебя, когда ты вдруг находишь подробную карту с указанием заветной деревни. Ты как будто погружаешься в странный мир, создаваемый условными (ну очень условными) знаками. Здесь были строения деревни, где жили твои предки, с этой стороны березовая роща, тут болота, а тут ручей с немыслимым названием. Здесь «бр.», видимо, брод, а здесь «ур.», надо полагать, урочище. Есть еще «сар.» – сараи, все, что осталось от некогда цветущей деревни, обозначенной на карте курсивом или прерывистым подчеркиванием, что, увы, означает, что она не сохранилась.