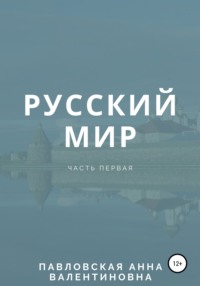Полная версия
Съедобная история моей семьи

Анна Павловская
Съедобная история моей семьи
Предисловие
Все люди в мире думают о еде. Голодные мечтают поесть; сытые ругают себя за то, что переели; хозяйки устало вздыхают, думая о предстоящей рутинной готовке. Приглашая гостей, мы в первую очередь начинаем думать, чем будем их кормить. Возвращаясь после работы домой, мысленно перебираем, что нас ждет в холодильнике. Даже отправляясь на романтическое свидание, задумываемся о том, где посидеть и что поесть. Оправляясь в туристический поход – собираем провизию. Возвращаясь из экзотического путешествия, отвечаем на бесконечные вопросы, чем нас кормили. Еда для человека – это не просто способ поддержания жизни. Это ритуал, это общение, это радость, это часть познания окружающего мира.
Вместе с тем люди стесняются говорить о еде, особенно в России. Тема эта считается почти неприличной для нашей культуры. Говорить на тему еды – пошлость, мещанство, показатель отсутствия духовных интересов, свидетельство низкого интеллектуального уровня. Во всем этом есть удивительное противоречие – важнейший вопрос жизни, волнующий всех и каждого, находится чуть ли не под негласным запретом.
Отсюда и другие, печальные, парадоксы – книг по кулинарии на прилавках много, даже слишком много, а уровень подавляющего большинства из них удивительно низкий. Создается впечатление, что все эти «Русские кухни» или «Кухни народов мира» переписываются из какого-то одного безграмотного источника, который можно условно назвать «Как научиться невкусно готовить», к тому же читать их скучно, да и практической пользы мало. Есть еще многочисленные переводные издания, красочно иллюстрированные, но абсолютно неприменимые к нашей жизни; их можно отнести к вымышленной рубрике «Что вы никогда не сможете приготовить», читать их интереснее как фантастические книги, но пользы тоже мало, да и утомляют они очень быстро.
Вот и пользуются спросом, как ни парадоксально, старые книги по кулинарии. Их можно разделить на две категории. Первая – полезные. Старые издания, начиная еще со сталинской «Книги о вкусной и здоровой пище», все еще очень практичные и близки к жизни. Нет, конечно, кое-что ушло из нашего быта и с наших прилавков, а многого в этих книгах не хватает, но если молодая хозяйка хочет освоить азы добротной и качественной пищи, лучше всего пользоваться старой «Книгой о вкусной и здоровой пище». Вторая категория старых книг по кулинарии – интересные. Самый яркий автор здесь В. В. Похлебкин. Его книги очень личные, полны исторических фактов, они познавательны и содержательны. Готовить по ним нельзя; я помню, как в юности пыталась приготовить что-то по его рецепту и потерпела полное фиаско. Знакомство с самим Похлебкиным только подтвердило тот факт, что человек он удивительный, знающий, эрудированный, но кроме него никто не может осуществлять его «практических руководств».
В России во все времена тема еды считалась низменной и недостойной, сугубо женской, хозяйственной сферой. Только в последние десятилетия, да и то в основном за рубежом, стали признавать важность и значимость этой темы, в том числе и как научной проблемы. Помню, как когда-то я предложила статью о еде как важнейшем факторе национального самоопределения, а также о месте еды в межкультурной коммуникации. На меня смотрели удивленно и жалостливо – вроде серьезный человек, а занимается такой ерундой! Если уж в обывательских кругах еда – тема пошлая, то что и говорить о научном снобизме. Если ты пишешь простым и понятным языком – ты не ученый, если пишешь о простых и понятных всем вещах – это не наука.
А ведь в этой «недостойной» теме сокрыто множество глубоких и важных для человечества проблем. Это и вопрос национальной идентичности – труднее всего народы отказываются от пищевых привычек, даже оказавшись оторванными от родной среды. Это и вопрос социальный, тесно связанный с традицией общения, семейными ритуалами, общественными отношениями. Безусловно, это и вопрос экономический – производство продуктов питания, торговля ими, в том числе и международная, все это важнейшие составляющие мировой экономики. Это и вопрос политический – чего только стоит непрекращающиеся уже несколько веков рассуждения на тему российского пьянства, вот и сегодня «водка» – не просто национальный напиток, но и краеугольный камень дискуссии на тему русского характера.
И все-таки для меня главной в теме еды остается «мысль семейная». За общим столом испокон веков собирались члены одной семьи, представители разных поколений – еда была и остается важнейшим семейным объединителем. На праздники приглашались и более дальние родственники, которых только и встретишь как за общим столом, последнее время, правда, увы, часто поминальным. Дочери учились кулинарному мастерству у матерей и бабушек, а потом, в свою очередь, делились своими знаниями и навыками со своими детьми и внуками. Таким образом, осуществлялась невидимая и чаще всего неосознанная связь времен, передача семейных и национальных традиций.
Интересный и наглядный пример – сегодняшняя глобализация общества. За последнее столетие множество людей по разным причинам (среди важнейших – экономические кризисы, голод, безработица, революции, войны, разного рода перестройки, кроме того, была и есть просто «охота к перемене мест») поменяли место жительства, оставили родные края, поселились в далеких местах, погрузились в иную культуру. Потомки переселенцев-эмигрантов, оторванные от национальных корней, сменили одежду, образ жизни, мировосприятие. А вот традиции питания часто выдают их происхождение: лобио и чахохбили на вполне парижском столе оказываются бабушкиным влиянием, а соленые огурцы и борщ на лондонском ясно указывают на страну, в которой родилась хозяйка дома.
Важным является, конечно, не только и не столько состав блюд, сколько традиции и ритуалы питания, определяющие, в свою очередь, ритм и уклад жизни. Даже в самой бедной крестьянской семье, где и выбора-то блюд не было никакого, кроме сезонного разнообразия, старались за стол сесть все вместе, хотя бы вечером, после работы. Ели молча, чуть ли не священнодействовали – хозяйка подавала еду, хозяин лично нарезал хлеб, строго следили, чтобы никто не ухватил лишнего куска, чтобы всем досталось поровну. В праздники выставляли на стол все лучшее, потчевали гостей, заботились, чтобы все были довольны, считая это своеобразным делом чести, берегли семейные традиции.
И сегодня в каждой семье – свои традиции, а вместе во всем многообразии они складываются в единую национальную систему.
Одна из причин, побудивших меня написать эту книгу, очень личная. В середине 1990-х годов я выступала на международной конференции в Мюнхене. Это была конференция по межкультурной коммуникации. Удивительно, но нет людей более нетерпимых к своеобразию чужих культур, чем эти самые коммуникаторы. Создается впечатление, что их главная задача – подогнать всех под одну гребенку, как правило, гребенка эта имеет ярко выраженный англосаксонский характер. Мой доклад был посвящен стереотипам восприятия России в мире. В числе прочего я вскользь упомянула о том, что упрощение трактовки советской эпохи, сведение ее исключительно к тоталитаризму и гнету представляется мне однобоким. И что у меня, например, было счастливое советское детство. И что я не знаю, как там с писателями и диссидентами, может, ими и интересовалось КГБ и они ощущали себя угнетенными режимом и несвободными, но мы, простые обыватели, мало чувствовали гнет власти и внимание КГБ; жили своими интересами и радостями, такими же, как у жителей «свободного» мира.
На это немедленно и очень страстно отреагировала польская участница. Она с яростью набросилась на меня, отрицая возможность счастливого детства в условиях советского строя. На ее вопрос, что же было у меня хорошего, я, слегка растерявшись, сказала: «Мама, папа, бабушки и дедушки, дача и деревня…» Не дав мне договорить, она презрительно хмыкнула: «Понятно, у вас была дача, так вы из номенклатуры!»
Долго я потом мысленно дискутировала с этой ученой межкультурной дамой. Рассказывала ей о своем детстве; о среде, в которой выросла; о стране, в которой сформировалась. И о дедушкиной даче – крошечном фанерном домике, который сегодня даже постеснялись бы назвать громким словом «дача», состоявшим из неотапливаемой террасы и двух малюсеньких проходных комнат с печкой. Домике, в котором удивительным образом помещалась большая семья, в котором устраивали чудесные пиры и праздники, который был открыт для всех. Домике, который окружали такие же крошечные домики, в которых жили наши многонациональные соседи – одна украинская, две русских, две еврейских, одна армянская, одна осетинская семья. Вот уж где была межкультурная коммуникация в действии, которую и представить себе не могут ученые специалисты. Когда из-за одного забора начинало пахнуть шашлыками, все соседи, собрав у кого что было, отправлялись в гости, не дожидаясь приглашения, уверенные, что им будут рады. И им были рады: и ели, пили, и общались, и смеялись, и устраивали детские праздники и взрослые гулянки. Да, дедушка мой в то время был небольшим чиновником в конторе, называвшейся Шахтспецстрой. Но это сейчас угольные шахты стали синонимом несметного богатства, а тогда работа на этом государственном предприятии означала, в числе прочего, и трудные для его возраста командировки, например в Норильск, во время одной из которых он и умер. Все, что имел мой «номенклатурный» дедушка, досталось ему, главным образом, из-за его удивительно доброжелательного характера, способности обзаводиться друзьями везде и всюду – а связи в нашей стране всегда были важнее чинов и даже богатства.
Словом, вспоминая свое детство и юность, я решила, что было бы здорово написать историю своей семьи – такой обычной и такой уникальной, такой банальной и такой неповторимой, как и всякая семья. Семьи, в которой отразилась действительно очень непростая советская эпоха. Но разве бывают простые эпохи в истории? И почему мы так мало интересуемся повседневной жизнью того периода, сосредотачиваясь преимущественно на политических моментах? Благодаря дневникам и письмам, которые были опубликованы в последние годы, мы теперь хорошо знаем повседневную историю XIX века. А недавняя, но уже ушедшая в историю эпоха века XX представлена почти исключительно дневниками государственных деятелей и письмами политзаключенных.
Я стала собирать материал. Нашла большой семейный архив: тут и письма, и официальные документы, и записи моей бабушки, и дневник дедушки, и многое другое, чудом сохранившееся в больших рваных пакетах на даче. Стала намечать план книги, продумывать детали, составлять список вопросов для старшего поколения родственников. Постепенно я стала осознавать, что воспоминания о детстве и юности люди не случайно пишут в глубокой старости. И не зря столь любимую мной «Семейную хронику» С. Т. Аксаков завершил незадолго до своей кончины, хотя работать над ней начал гораздо раньше. А потом, как будто случайно, «отвлекся» на записки об уженье рыбы и записки об охоте. Писать о жизни людей, которые, слава богу, еще живы, оказалось невозможно, не приукрашая действительность, а какой смысл писать только о хорошем, если было всякое, как и у всех. Кто же поверит хорошему, если картина будет неполной. Словом, с идеей истории семьи пришлось расстаться. Правда, я все еще мечтаю опубликовать когда-нибудь хотя бы найденные письма. Они сами по себе уже любопытнейший документ эпохи, несмотря на то, что в них нет встреч с великими людьми или описаний знаменитых событий.
И вот я решила написать историю семейной кулинарии, описать семейные традиции питания, гостеприимства и застольного общения. Об уженье рыбы я ничего не знаю, на эту тему отвлечься не могу, а вот за прошедшие годы опыт приготовления блюд накопился немалый. И не просто как у любой хозяйки. Готовка – мое хобби. Когда мне грустно, скучно, не хочется работать, я иду на кухню и фантазирую с блюдами. При этом, как и большинство женщин, я опираюсь в первую очередь на семейный опыт, вспоминаю детство и юность, читаю книги, использую опыт своих путешествий. Женщина на кухне – всегда хранительница традиций, мужчина в этом вопросе чаще является творцом и художником, экспериментатором, а вот бабушкины рецепты блюдет именно женщина.
К тому же я поняла, что большая часть событий моей жизни, как и жизни любого человека, связана с едой и культурой питания. Так что история семьи, история страны, история исторических эпох вполне укладываются в «кулинарную» историю. Временным ограничением стали для меня 1970-е годы, последнее десятилетие советской эпохи, еще хранившее сложившиеся советские бытовые традиции.
Нередко жизнь того или иного человека или целой семьи связывается в нашем сознании с определенным местом. Где только ни жил Лев Толстой – и в Москве, в Казани, и в Петербурге, не считая службы на Кавказе и путешествий по Европе, а для нас он – Ясная Поляна, ничего с этим не сделаешь. В детстве же такого рода привязки к месту еще сильнее, чувствуются острее и сохраняются на всю жизнь. Именно поэтому три главы книги названы тремя географическими названиями, которые неразрывно связаны в моем сознании с моими родственниками. Смоленские крестьяне, родня моего папы, для меня – тарусяне, жители города Тарусы, Калужской области, в котором они поселились после войны. Кавказская родня мамы ассоциируется, в первую очередь, с дачным поселком Клязьма. Хотя мы и проводили там всего пару летних месяцев, именно это место стало для меня воплощением той дружной, крепкой и счастливой семейной жизни, с которой связываются воспоминания детства.
Глава о моих родителях названа «Ленинский проспект». Собственно говоря, на Ленинский проспект наша семья переехала после смерти дедушки, в 1977 году: бабушка не хотела одна оставаться в старой квартире, и мы сделали родственный обмен, как это было тогда принято. Событие это произошло вне временных рамок этой книги. Однако за прошедшие годы мы все так привыкли к тому, что наши мама и папа живут именно там, что понятие «Ленинский» стало в каком-то смысле синонимом места проживания родителей. Даже сейчас, когда, оставшись одна, мама переехала в другую квартиру, мы иногда говорим: «Ну что, встретимся на Ленинском?» – подразумевая у мамы. Думаю, это пройдет, но именно Ленинский останется для нас своеобразным «родовым гнездом», именно там мы жили все вместе, одной семьей, оттуда ушли мы, дети, в самостоятельную жизнь и туда приезжали потом очень часто, чтобы посидеть и попить чайку с мамой и папой.
Каждая глава, в свою очередь, делится на одинаковые части: «семейная» посвящена истории соответствующей родовой линии, «застольная» – ее быту, традициям, прежде всего в области повседневного и праздничного питания и общения, «кулинарная» – семейным рецептам и традициям приготовления пищи. Все это обильно пересыпается историко-культурными сведениями, касающимися истории быта и еды.
Трудно определить жанр этой книги. Научно-популярные мемуары? Мемуарная публицистика? Ученые воспоминания? Здесь и изыскания об истории моих предков, и собственные воспоминания, и кулинарные рецепты, и заметки по истории советского быта, и исследования по истории и традициям питания, и многое другое, что трудно вместить в общепринятые рамки и дать некое единое определение.
Эта книга очень личная. Она об обычной российской семье советского периода, пережившей всякое; типичной, такой же, как все, и вместе с тем особенной, необычной и неповторимой, опять же, как любая российская семья.
Глава 1. Таруса
Семейная
В семье моего отца не принято было говорить о еде. Невозможно представить их, смакующих описания блюд и разносолов. Категоричный папа с позиции русского интеллигента, вышедшего из крестьянской среды, называл это мещанством, а про нас, его детей, поддавшихся влиянию западной культуры и с чувством обсуждавших меню ресторанов, в этом случае презрительно говорил: «Вам бы только пожрать и выпить, вот вырастил детей». А дети между тем получились не такие плохие, и он это прекрасно знал. Но столь сильно было презрение к низменной теме еды.
Между тем еда – это не только обжорство, один из смертных грехов, но и семейная традиция. Именно папина семья, страшно голодавшая во время трехлетней оккупации в годы войны, перебивавшаяся кое-как с хлеба на воду в послевоенные годы, всю жизнь питавшаяся скромно, знала это лучше других. И папа, москвич, профессор, городской житель, много лет возил любимым маме, сестре и брату из столицы сливочное масло, колбасу, белый хлеб. А бабушка моя до самой смерти хранила под подушкой мешочек с черными сухарями – на всякий случай, вдруг что случится, а у нее и запас готов! Еду никогда не выбрасывали, это считалось кощунством. Впрочем, в отличие от современной традиции покупать и готовить впрок, на неделю вперед, продуктов много никогда не покупали, а еды много не готовили.
Главное же то, что за общим столом рождалась, крепла, жила семья, и еду можно считать тем цементом, который ее скреплял. Посмотрите многочисленные сайты и форумы о еде в Интернете: «Так делала моя бабушка», «Моя мама это блюдо готовила так, что пальчики оближешь!», «Этому меня научила свекровь». Людей уже давно нет, а память о них живет в любимых блюдах, которые едят их благодарные выросшие дети и никогда не виденные ими потомки.
Именно о семье мне и хотелось бы поговорить в первую очередь, о той советской семье, которая потерялась среди идеологических баталий, политических скандалов, грандиозных исторических событий, но которая имела свои неповторимые черты и в некотором роде, наряду с освоением космоса и стройками века, вполне может считаться достижением социалистической системы. Известно о ней мало: статистика, всегда покорная требованиям времени, в советское время все представляла в идеализированном виде, а в постсоветское кинулась в другую крайность и очернила все, что можно. Почти все источники личного характера – дневники, мемуары, письма, относящиеся к этому периоду, – если и были опубликованы, то касаются политических и масштабно-исторических событий. Кое-что можно найти в художественной литературе и фильмах того времени, хотя и здесь в большинстве своем сильно идеологическое влияние. Но – остались люди. Время это еще не так далеко отстоит от нас, чтобы не иметь возможности обернуться назад, вспомнить, отдать должное.
Это не научное исследование. Я не буду пытаться проанализировать советскую семью, основываясь на разнообразных источниках (нечто подобное я сделала в своем труде «Русский мир»). Я просто попробую вспомнить свою семью. Помогут мне в этом любимые семейные блюда и традиции, дожившие до нашего времени. Но это и не мемуары (до них я еще не дозрела), а скорее попытка создать образ, тип традиционной советской семьи, а я считаю советскую семью одним из важнейших достижений эпохи. Насколько же типична моя семья?
У меня было счастливое советское детство. Много родственников – мама, папа, бабушки, дедушка, тети, дяди, двоюродные братья и сестра. Я, конечно, тогда и не подозревала, как это здорово, когда тебя окружает такое количество родных и близких, которые, к тому же, все трогательно тебя любят. Мне повезло – у родителей я была первый ребенок, у дедушки и бабушки по маминой линии – первая внучка, до меня были только мальчики, а папа сам был обожаемым младшим ребенком в своей семье, и их чувства ко мне стали отражением этой большой любви. Понимаю, что не всем так повезло в жизни. Во всем же остальном моя большая семья была вполне типична для своего времени. Советская эпоха к этому моменту, началу 1960-х, действительно успела все перемешать и привести к некоему общему знаменателю. Папа выходец из крестьянской семьи, мама из служащих, он изначально из Смоленской (потом проживал в Калужской) области, она москвичка, папа русский, мама армянка, он из довольно бедной семьи, она из относительно состоятельной. А встретились оба в лучшем учебном заведении страны – Московском университете.
Есть один странный, но вечный вопрос, которым взрослые любят мучить маленьких детей: «Ты кого больше любишь – маму или папу?» Трудно сказать, что они надеются выяснить, задавая его. Каких-то тайных признаний, откровений, правду о ситуации в семье? Не знаю, как других, но меня этот вопрос всегда ставил в тупик. Любовь к обоим родителям была совершенно естественным состоянием детской души, собственно, я даже и не знала тогда, что это называется любовью. Любовь – это у героев книг или фильмов. Это было у нас в детском саду, из которого я регулярно приносила сведения, кто кого любит. Однажды мама, с неподдельным женским интересом выслушав очередную тираду про Свету, которая любит Мишу, который любит меня, а я люблю Диму, пересказала это папе. В мамином дневнике периода моего детства я прочитала (цитирую): «Валя сразу вскинулся: “Еще чего! В твоем возрасте, запомни, надо любить воспитательницу и дедушку Крылова”. Аня (хитро-хитро и надменно): “А замуж мне что, за его портрет выходить?” После паузы: “Что, мне его портрет будет посуду мыть и мусор выносить?”».
Родители – они просто есть, как воздух, как жизнь, как ты сам. Какая же тут любовь? Так вот, одинаково ценя и любя своих родителей, начну все-таки с отцовской линии. Да простят меня все феминистки мира, но как-то принято именно с отцовской линии, давшей тебе фамилию и отчество, начинать биографию.
Предки моего отца родом из Смоленской области. На реке Угре стояла деревня Покровка, большая часть жителей которой носила фамилии Фатющенковы и Фотченковы. Фамилии не совсем обычные. На четвертом курсе исторического факультета МГУ я сдавала экзамен по русской культуре академику Б. А. Рыбакову. Его лекционный курс был очень необычный, авторский, Борис Александрович выплескивал на нас все богатство своей научной фантазии по самым разным темам. Было ужасно интересно, завораживало, уводило в другой мир. Как опытный преподаватель, понимавший, что на четвертом курсе нас, специализирующихся по русской истории, уже нет смысла спрашивать даты и факты, на экзамене Рыбаков просто вел с каждым студентом приятный околонаучный разговор. Со мной он заговорил о моей фамилии – Фатющенко, высказавшись относительно ее украинского характера.
Я стала терпеливо объяснять, что папа мой «потерял» букву «в» (о чем позже), что и сделало нас украинцами, а так вообще мы все Фатющенковы из деревни Покровка, что недалеко от Ельни. Академик Рыбаков, всегда тяготевший к южнорусской теме, а незадолго до нашего разговора подтвердивший дату 1500-летия основания г. Киева, ничуть не впечатлился: фамилия все равно украинская, утверждал он, чего только стоит сочетание «щенк» и вообще ее звучание.
Смоленская земля – пограничная. Кто только по ней ни проходил – и поляки, и литовцы, и французы, и, самым страшным потоком – немцы. Еще большее значение, возможно, имело непосредственное соседство с белорусскими землями, что способствовало смешению языков, культур и традиций на территории Смоленщины.
Согласно рассказам моей тети Тоси, Ефросиньи Ивановны Фатющенковой, в шести километрах от Покровки, в месте впадения в Угру маленького притока «стоит столб каменный – граница, называется Жастовня» («что такое – сама не знаю»), и почему называли это границей, никто не знал. В сторону Покровки «разговор был наш, простой, русский», женщины носили панёвы (или понёвы, допустимы оба варианта), плиссированные юбки темно-синего цвета, с красными прожилками-клетками. А вот в другую сторону от столба, к деревне Мазово и дальше, шли места, которые местные жители называли «Польшей», сами не знали почему. И разговор там был другой, все через букву «з», даже и понять бывало трудно, и носили саяны, «шили их выше, под грудь», «не то чтобы розового, не то фиолетового, а скорее, оранжевого и желтого цвета».
Обратившись к этнографическим материалам, я обнаружила следующее. Для Ельнинского района Смоленской губернии в XIX веке были характерны два типа крестьянского костюма, граница в бытовании которых проходила с севера на юг, примерно по реке Угре. Один, великорусских крестьянок (типологию традиционной одежды принято в большей степени проводить по женскому костюму, мужской отличается большим единообразием), в котором определяющим предметом была понева, древнейший вид русской одежды. Первоначально распашная, из двух не-сшитых полотнищ, а потом в виде юбки-поневы. И да-да, полотна были темно-синего цвета в крупную клетку. Дополняли этот костюм длинная холщевая рубаха навыпуск, украшенная вышивкой красного цвета по горловине и низу рукавов, старинный головной убор «сорока» и бисерные нагрудные украшения. Впрочем, «сороку» к началу XX века вытеснил платок.
Второй тип одежды, белорусский, состоял из андарака или саяна, юбки из пяти-шести полотнищ, вверху сборенных под пояс. Их расшивали пестрыми продольными полосками, отсюда, наверное, неопределенность цвета, на который указала моя тетка. Согласно словарю В. И. Даля, саян – это сарафан с застежкой спереди (причем он утверждает, что слово это почти вышло из употребления, а вот тетка моя в начале XXI века употребляла его так, как будто все знают, о чем идет речь). Однако в данном случае речь идет именно о белорусской юбке.