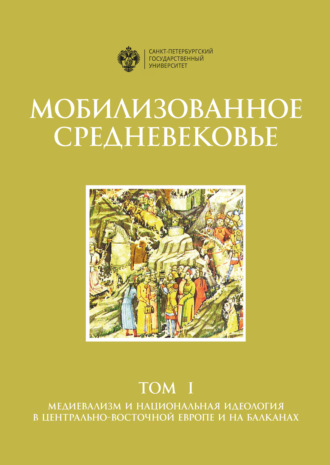
Полная версия
Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах
Как видно, наряду с библейскими реминисценциями (обнаруживаемыми, прежде всего, в лице гиганта Менрота, за которым скрывается образ ветхозаветного Нимрода) и книжным географическим знанием (Персия, страна Эвилат, Меотида), в изложенном мифе присутствуют и архаичные пласты, вероятно, почерпнутые автором из аутентичной гентильной традиции древних мадьяр. Таково, например, представление о праматери Энет, чье имя, интерпретируемое исследователями как название животного (коровы), очевидно, хранит память о тотемистических верованиях древних финно-угров[158]. Таков и миф о чудесном олене, указывающем путь к «новой родине», который, как показали исследования венгерских ученых, находит аналогии в целом ряде архаичных мифов народов Сибири и Центральной Азии[159]. Возможно, что к числу таких же древних сведений, восходящих аутентичной гентильной традиции, относится и имя Хунора, если верно предположение Дьердя Дьерффи, что данное имя отражает название этнополитической общности оногуров, в состав которой в V–VIII вв. входили предки мадьяр[160]. К числу следов аутентичной гентильной традиции, хранившей память о контактах предков мадьяр с древними народами Приазовья, исследователи готовы относить и упоминание аланов, а также имя Белара, будто бы являвшегося персонификацией булгар[161].
Концептуальные новации Шимона Кезаи, однако, не ограничивались механическим соединением гентильной традиции венгров и книжного знания о гуннах. Шимон Кезаи не только остроумно объяснил характер родства гуннов и венгров, уподобив разницу между ними (в языке) разнице между саксами и тюрингами, но и на основе западноевропейских и венгерских источников сконструировал подробный исторический нарратив, в котором гуннская и венгерская история образовывали нерасторжимое единство. Сохраняя и насыщая новыми деталями основополагающий сюжет о двойном завоевании Паннонии (сначала гуннами, а затем венграми) и гуннском происхождении секеев, Шимон Кезаи яснее обозначает хронологическую дистанцию между событиями, датируя приход Аттилы 700 г., а приход Арпада – 872 г., а также заметно расширяет сферу преемственности между гуннскими и мадьярскими вождями, подчеркивая некоторые яркие детали.
Примером может служить информация о знамени Аттилы с изображением священной птицы Турул, которое, по словам Шимона Кезаи, венгры использовали вплоть до времен князя Гезы[162]. При этом благодаря искусной концептуализации исторических событий между гуннскими и венгерскими правителями в нарративе Шимона Кезаи выстраивалась не только политическая преемственность, но и своего рода символическая связь. Так, подчеркивая единство гуннско-венгерской истории, Шимон Кезаи выстраивает образ Аттилы как своеобразную параллель образу князя Гезы, первого христианского правителя из дома Арпадов. Подобно тому как Геза первым из языческих правителей принял христианство, Аттила был поражен явленным ему во время встречи с папой чудесным видением и согласился удовлетворить просьбы римлян. Как показал Енё Сюч, проанализировав идеологические аспекты хроники Кезаи, образ Аттилы приобрел в труде венгерского хрониста явные христианские коннотации: грозный гуннский вождь фактически оказался в шаге от того, чтобы стать защитником Римской церкви (!)[163].
Таким образом, хроника Шимона Кезаи развивала, дополняя множеством подробностей, традицию повествования о двойном завоевании Паннонии, фигурировавшую уже в труде Анонима, делая ее адекватной новой политической повестке – венгерско-куманскому альянсу эпохи правления Ласло IV. Максимально разворачивая Венгрию лицом к востоку, хронист вместе с тем подчеркивал христианские параметры эпохалистской гуннско-венгерской идентичности. Из «Бича Божьего», каким он представал в западноевропейской историографии, Аттила превращается в его нарративе в защитника Рима и Запада. Благодаря всему этому в хронике Шимона Кезаи были максимально полно реализованы задачи легитимизации актуальной политической ситуации в Венгрии (венгерско-половецкий альянс), а также легитимизации и исторической индивидуализации венгерской этнополитической общности как таковой. Через идентификацию с гуннами венгры обрели древнюю и весьма «престижную» в восприятии людей того времени историю, а также культурную специфику, выделявшую венгров среди других народов средневековой Европы. При этом очерченное Кезаи в образе гуннов и венгров сочетание воинской доблести, ориентальных культурных традиций и непоколебимой преданности христианству на долгие века станет стержнем венгерской культурной идентичности и политической идеологии[164].
К числу прославленных предков, через идентификацию с которыми средневековые элиты Европы могли обрести искомую эпохалистскую идентичность, несомненно, относились и готы – неустрашимые и победоносные северные варвары, некогда захватившие Рим. Традиция, обращенная к готам и их наследию, была традиционно сильна на Пиренеях (прежде всего, в королевстве Астурии и его державах-наследниках – Леоне и Кастилии[165], а также в Португалии), то есть там, где в раннем Средневековье существовала держава вестготов, в Швеции (одна из коренных провинций которой – Гёталанд – считалась древней родиной готов) и в землях Священной Римской империи[166].
Интересно, что подобно тому, как это было с гуннами, практически все случаи апелляции к готам в средневековой Европе были именно «изобретенными традициями», не выраставшими напрямую из готского наследия в собственном смысле слова. Как показал Хулио Эскалона, вопреки распространенным в историографии представлениям об Астурии как прямом преемнике завоеванного арабами королевства вестготов, традиция, возводящая происхождение астурийской элиты к вестготам, также была «изобретенной традицией», сформировавшейся в Овьедо при королевском дворе Альфонсо III (866–910 гг.)[167].
Интересной параллелью к готицизму на Пиренеях является шведский готицизм, развившийся в позднее Средневековье не без испанского влияния. Хотя слово «готы» присутствовало в титуле шведских королей еще с XI в., едва ли в ту эпоху речь шла о готах позднеантичной истории. Готами в данном случае именовались гёты – жители Гёталанда, где в раннем Средневековье существовало самостоятельное королевство. И хотя средиземноморские готы и шведские гёты (а также гуты – жители острова Готланд на Балтике), вероятно, некогда и являлись одним народом, трудно судить, насколько это обстоятельство определяло трактовку гётской идентичности в раннесредневековой Швеции[168].
Как отмечает А. Д. Щеглов, первым программным произведением готицизма в Швеции стала «Произаическая хроника» (XV в.)[169], автор которой сознательно проводил отождествление гётов с готами, а, описывая древнюю историю готов, обильно ссылался на зарубежных авторов. Одним из этих авторов был испанский (кастильский) историк XI столетия Родриго Хименес де Рада (Rhodericus Toletanus), много писавший о славных деяниях готов. В результате в «Прозаической хронике» оформилась любопытная историографическая конструкция, согласно которой шведы – это прямые потомки гётов-готов, в свое время колонизировавших Скифию, от какового названия якобы и произошло название «Швеция»[170].
Итак, готицизм был эпохалистской идеологией, привлекавшей интеллектуальные и политические элиты в разных частях Европы – от Средиземноморья до Балтики. Не являлся здесь исключением и славянский мир. Так, яркая историческая традиция, апеллировавшая к готам, содержится в произведении, известном под условным названием «Летопись попа Дуклянина», созданном в XII столетии в Дуклянском королевстве (территория современных Черногории и северной Албании)[171]. Это произведение, наиболее вероятным автором которого был архиепископ Григорий (1172–1196 гг.) из дуклянского города Бара[172], представляет собой обширный исторический нарратив в жанре «gesta regum» («деяния королей»). В нем описываются деяния королей готского происхождения, правивших с конца V в. в полуреальном-полумифическом готскославянском королевстве, занимавшем, согласно летописи, обширное пространство позднеримских провинций Далмации и Превалиса, что географически отчасти соответствовало контурам Дуклянской державы периода ее наивысшего могущества (вторая половина XI в.).
История готско-славянского королевства начинается в летописи с рассказа о трех братьях – сыновьях готского короля Сенулада, которых звали Брус, Тотила и Остроил. Их появление на исторической сцене датируется автором посредством упоминания известных современников – императора Анастасия (491–518 гг.), папы Геласия I (492–496 гг.), ошибочно именуемого здесь Геласием II, епископов Германа (епископ Капуи в Кампании в 516–540 гг.) и Сабина (епископ Каносы в Апулии в 514–566 гг.), а также Бенедикта Нурсийского (около 480–543 гг.), основателя Монтекассинского монастыря (529 г.)[173]. В то время как старший сын, Брус, по сообщению летописи, унаследовал трон отца в некой северной стране готов, местонахождение которой автором не уточняется, Тотила и Остроил отправились стяжать славу, завоевывая новые земли. Разгромив в жестокой битве «короля далматинцев» и «короля Истрии»[174], выступивших против завоевателей, войска готов разделились: Тотила через Истрию ушел в Италию, где продолжил свои завоевания, а Остроил, вступив в «Иллирийскую провинцию», овладел «всей Далмацией» и «приморскими областями»[175].
Обосновавшись в «Превалитанской области», то есть, очевидно, на территории, соответствовавшей позднеримской провинции Превалис, Остроил стал основателем династии королей, деяния которых в подробностях описываются в следующих главах летописи. Среди прочего в них говорится о том, что в правление Сенудслава, сына Остроила, королевство, охватывавшее как приморские территории, так и области, расположенные за горами, простиралось от «Валдевина» до «Полонии», и что Селимир, сын Сенудслава, «наполнил страну множеством славян»[176]. Рассказав о том, как в правление Бладина, сына Селимира, территорию по соседству с готско-славянским королевством занял еще один народ – переселенцы с реки Волги, называемые «вулгарами» (Vulgari)[177], – летописец счел нужным отметить: «И оба народа весьма почитали друг друга – готы, то есть славяне, и вулгары, и главным образом из-за того, что те и другие были язычники и одного языка»[178].
В правление Светопелека, десятого по счету короля готской династии, готско-славянское королевство было обращено в христианство. Согласно летописному рассказу, это произошло в результате проповеди Константина (св. Кирилла), который по пути в Рим на некоторое время остановился в державе Светопелека[179]. На созванном королем после крещения соборе «на поле Далмы», проходившем в присутствии послов от римского папы и византийского императора, готско-славянское королевство получило четкое административное устройство, после чего Светопелек был коронован папским посланником[180]. Преемниками готских королей из династии Сенулада в «Летописи попа Дуклянина» предстают травунские, а затем дуклянские правители, деяния которых детально прослеживаются летописцем вплоть до середины XII в.
Хотя взгляд на готско-славянское королевство как на идеологически мотивированную конструкцию уже давно присутствует в историографии[181], вопрос о том, с какими именно историческими обстоятельствами связано появление подобной «изобретенной традиции», остается предметом дискуссий. Так, довольно популярной в посвященной летописи исторической литературе является идея, согласно которой с помощью сюжета о том, как король Светопелек после крещения был коронован и обустроил свое королевство, разделив его на провинции и учредив архиепископии с центрами в Салоне и Диоклее, летописец стремился обосновать архиепископский статус Дуклянской (Барской) церкви, оспаривавшийся Дубровником[182]. Предпринимались и попытки связать образ готско-славянского королевства с политическими претензиями дуклянских правителей из династии Воиславичей[183] или византийского императора Мануила I Комнина (1143–1180 гг.), сумевшего в 1160-х гг. распространить свою верховную власть сразу на несколько политических организмов в западной части Балкан[184]. Хотя любая из этих версий может служить гипотетическим объяснением того или иного из летописных сюжетов, ни одна из них, однако, не в состоянии объяснить историческую концепцию дуклянского автора в ее целостном виде.
Лишь в самое последнее время к числу подходов к интерпретации летописных известий о готско-славянском королевстве присоединился подход, фокусирующий внимание на этническом дискурсе дуклянского автора. Идею, согласно которой образ готско-славянского королевства является порождением именно этнического дискурса, высказал хорватский историк М. Анчич[185]. По мнению исследователя, отраженная в «Летописи попа Дуклянина» идея существования единого королевства славян, охватывавшего области бывших римских провинций Далмации и Превалиса, естественным образом выросла из осознания синонимичности понятий языка и народа[186]. Данная мысль представляется нам вполне справедливой, так как, только принимая во внимание этнический дискурс летописца, можно до некоторой степени объяснить, почему описываемое в летописи готско-славянское королевство имело столь странные очертания и внутреннюю структуру. Обширное и территориально аморфное королевство, важнейшие политические центры которого – упоминаемый в качестве местопребывания короля Остроила «превалитанский город» (urbs Praevalitana)[187], вероятно, соответствующий Скодре (Шкодеру)[188], и Диоклея (в которой, согласно 9-й главе, был похоронен Светопелек[189]) – концентрировались в его юго-восточной части, мало напоминает политический проект, созданный в интересах какого-либо государя. Скорее оно может быть интерпретировано как образ (южно)славянского мира, увиденного глазами жителей Бара – приморского города, по крайней мере часть жителей которого составляли романцы. Иными словами, готско-славянское королевство – это «Barbaricum», «варварский мир» внутренних районов западной части Балкан, осмысленный летописцем как этническая и политическая целостность в соответствии с этнической оппозицией «романцы – славяне».
Если принять во внимание это обстоятельство, то нарисованная летописцем причудливая картина прошлого становится более понятной. Так, предпринятая им этнизация понятия «готы», под которым следует разуметь характерное для образованных романских жителей побережья Адриатики обобщенное обозначение «варваров», проживавших во внутренних районах страны[190], обусловила появление в летописи известных образованному клирику сюжетов из готской истории. Так, есть основания полагать, что история о трех братьях – сыновьях готского короля Сенулада – воспроизводит сюжет о сыновьях Вандалария из рода Амалов, описанный в знаменитом труде готского историка Иордана[191]. И хотя до настоящего времени остается неясным, откуда именно дуклянский автор почерпнул свои сведения о готах, некоторые детали повествования, такие как присутствие среди летописных персонажей небезызвестного Тотилы, заставляют думать, что летописец использовал историческую традицию, бытовавшую в Южной Италии и, возможно, ставшую известной в Баре благодаря контактам с Монтекассинским аббатством[192].
Похожим образом превращение в летописи понятия «славяне», по сути являвшегося для романских жителей собирательным названием славяноязычного населения внутренних областей, в обозначение особой этнополитической единицы – «славянского народа», объясняет не только странные очертания готской державы (это чуть ли не весь известный летописцу (южно)славянский мир), но и появление в ее истории таких персонажей, как Светопелек (Святополк) и св. Кирилл. Ведь в рамках кирилло-мефодиевской традиции, очевидно, в той или иной степени известной на берегах Адриатики, моравский князь Святополк представал прежде всего как правитель славян, а св. Константин-Кирилл – как просветитель славян. Получается, что именно дискурсивное структурирование доступной автору информации о готах и славянах в рамках актуального этнического дискурса и привело к появлению в летописи образа могущественного королевства, объединившего в себе историю готской державы Амалов с историей Великой Моравии, но при этом размещавшегося на Балканах, с ядром в Дукле.
Интересно, что с течением времени дуклянская историческая традиция о готско-славянском королевстве распространилась по соседним землям. О том, что она была значима не только для раннесредневековой Дукли, в XIII в. «растворившейся» в Сербском королевстве Неманичей, но и для средневекового Хорватского королевства, свидетельствует так называемая «Хорватская хроника»[193], написанная на хорватском языке (чакавским наречием), вероятно, не позднее XIV в.[194] Изложение событий в хронике, фактически являющейся славянской (хорватской) редакцией «Летописи попа Дуклянина», соответствует (с некоторыми более или менее существенными расхождениями в отдельных деталях) первым 23 главам из 47 глав дуклянского автора с присоединением к ним еще нескольких глав (24–28), содержание которых не имеет параллелей в латинской редакции. Привязка готско-славянского королевства к Травунии и Дукле в «Хорватской хронике» отсутствует (вместо Превалитанской области в качестве места, где обосновался Остроил, здесь фигурирует «Приливит», локализуемый автором хроники в Боснии[195]), а король, в правление которого произошло крещение страны, по необъяснимой причине именуется в ней не Светопелеком, а Будимиром[196]. Преемником готских королей предстает в хронике хорватский король Дмитрий Звонимир (1075–1089 гг.), о судьбе которого подробно рассказывается в ее последних главах[197].
Вследствие всех этих странных обстоятельств в историографии даже появилась версия о том, что «Хорватская хроника» восходит к той самой славянской «книге о готах», будто бы лежащей в основе созданной в Дукле латинской редакции летописи[198]. Однако едва ли можно согласиться с этой версией: характер содержательных отличий «Хорватской хроники» от латинской редакции позволяет скорее говорить о «кроатизации» в хронике дуклянской версии истории готско-славянского королевства, нежели об обратном явлении[199].
К XIV в. относится создание еще одного хорватского памятника, апеллировавшего к готско-славянскому королевству, – приписки к тексту «Супетарского картулярия», в которой описывается политическое устройство некоего идеального «королевства хорватов». В тексте этого источника, появление которого, очевидно, следует связывать с деятельностью Сплитской церкви и тяготевшей к ней части хорватской знати[200], перечисляются имена банов (королевских наместников), будто бы существовавших в королевстве хорватов «со времен короля Светопелека вплоть до времени Звонимира»[201].
Есть основания полагать, что присвоение хорватской элитой готской традиции произошло в конце XIII – начале XIV в., когда представителю могущественного хорватского рода Шубичей, Павлу Шубичу, носившему титул бана хорватов (1299–1312 гг.), удалось не только распространить свою власть на огромную территорию, но и превратиться в фактически самостоятельного хорватского государя, лишь номинально зависевшего от правившей тогда в Хорватском королевстве (находившемся с 1102 г. в унии с Венгрией) венгерской династии Арпадов и сменившей ее Анжуйской династии из Неаполя. Как показывают новейшие исследования, в практике репрезентации своей власти Шубичи сознательно обращались к образу хорватского короля Звонимира, почитание которого утвердилось в родовом граде Шубичей – Брибире[202]. Наличие рассказа о правлении Звонимира в тексте «Хорватской хроники» вместе с присутствием репрезентативого образа королевства хорватов в приписке к «Супетарскому картулярию» позволяет предположить, что в державе Шубичей произошло конструирование новой эпохалистской традиции, в которой готская идентичность, приписывавшаяся славянам обитателями романских городов, могла быть усвоена хорватской элитой.
«Другой Рим»: антикизация прошлого в историческом воображении
При всей популярности гуннской и готской традиций, обращение к средневековым историческим сочинениям показывает, что «превращение» в потомков гуннов или готов было далеко не единственной возможной стратегией для того, чтобы обрести достойных предков, способных конкурировать в доблестях и славе с римлянами. При наличии должной эрудиции и таланта можно было даже создать новую, неизвестную доселе, эпохалистскую идентичность в античном интерьере. Классическим примером подобного подхода является знаменитый труд валлийского историка Гальфрида Монмутского «О деяниях бриттов» («De gestis Britonum») (ок. 1136 г.)[203], где конструируется квазиимперская «бриттская» идентичность, а древняя Британия выступает равноправным партнером и соперником Римской империи[204]. Похожее явление наблюда ется и в труде датского историка Саксона Грамматика «Деяния данов» («Gesta Danorum») (ок. 1200 г.)[205]. Созданный в период датского великодержавия, когда сфера влияния датской короны простиралась от Рюгена до Эстонии, труд Саксона Грамматика представляет нам величественную картину истории «балтийской империи» данов[206], которая посредством использования антикизирующих географических и этнических названий, а также недвусмысленных исторических аллюзий вызывает у читателя однозначные ассоциации со «средиземноморской империей» римлян[207].
Примером такой стратегии в интересующих нас странах Центральной Европы является «империя лехитов» – дискурсивный конструкт, созданный гением краковского каноника (будущего краковского епископа) Винцентия Кадлубка, одного из образованнейших людей Польши в XII–XIII столетиях. Свое произведение «Хроника поляков» («Chronica Polonorum») магистр Винцентий облекает в форму изысканного по своим риторическим свойствам диалога двух ученых мужей – гнезненского архиепископа Яна (1146–1167 гг.) и краковского епископа Матвея (1143–1166 гг.)[208]. Вымышленный разговор двух интеллектуалов переполнен цитатами и аллюзиями, выдающими колоссальную начитанность Кадлубка. Тут и Цицерон, и Сенека, и Лукан, и Платон, и Овидий, и Макробий и множество других авторов, не исключая и современников магистра[209]. При этом важно отметить, что все это книжное знание использовалось автором отнюдь не только в риторических целях. Оно помогло Кадлубку, во-первых, сформировать уникальный «республиканский» политический идеал, отвечавший интересам краковской элиты эпохи правления Казимира II Справедливого (1177–1194 гг.)[210], а во-вторых, как некогда Кассиодору в случае с готами, «вернуть из забвения» славные деяния лехитов, то есть поляков, искусно сконструировав при этом такую версию истории, которая отвечала вышеупомянутому политическому идеалу.
Согласно магистру Винцентию, предки поляков – лехиты – издревле были доблестным народом-воителем. Их история прослеживается автором со времен древних галлов, которые сами будучи великими завоевателями, сумевшими захватить Рим, столкнулись с лехитами, когда покорили Паннонию. Однако справиться с лехитами им не удалось, и, заключив перемирие, два могучих народа фактически поделили между собой Европу. В то время как в руках галлов уже оказалась Греция, «нашим», сообщает Кадлубек, достались земли, «тянувшиеся с одной стороны вплоть до страны парфян, с другой – вплоть до Болгарии, с третьей – до границ Каринтии»[211]. Так возникла огромная «империя» лехитов, дожившая до времен раннего Средневековья. Вызывает интерес само происхождение названия «лехиты». В источниках, предшествующих труду Кадлубка, оно не встречается, хотя существовал ряд похожих племенных этнонимов – лендзяне, личики, лицикавики, о соотношении которых друг с другом в науке уже более столетия ведутся бесплодные споры[212]. Известно также, что на Руси всех подданных державы Пястов именовали «ляхами» – названием, произведенным от имени польского племени лендзян, обитавшего в верховьях Буга и Стыри[213]. Все это позволяет думать, что лехитская идентичность была сконструирована Кадлубком из наличного славянского материала по образцу античных этнонимов.
Первым правителем лехитов, согласно Кадлубку, был Гракх (Крак), прибывший из Каринтии и основавший Краков. История Крака и двух его сыновей, победивших чудище (holophagus), обитавшего в пещере под Вавелем, несомненно, заключает в себе элементы древних мифов, восходящих, вероятно, еще ко временам древнего Вислянского княжества (IX–X вв.), чьим племенным центром являлся Краков. Так, уже само имя Крака, трактуемое исследователями как древнее славянское понятие, обозначавшее «законотворца», вызывает ассоциации с именем легендарного правителя чехов – мудрого судьи Крока, известного из «Чешской хроники» Козьмы Пражского[214]. Сходство имен этих персонажей, конечно же, не является случайным, отражая сходство их исторических ролей. Подобно чешскому Кроку, Крак в повествовании магистра Винцентия предстает в роли культурного героя: он сообщает лехитам законы и становится их первым королем, фактически создавая тем самым новый народ. Победу сыновей Крака над чудовищем также следует трактовать как преодоление хаоса и рождение новой цивилизованной общности людей[215]. Наконец, сообщение магистра Винцентия о том, что Крак пришел (вернулся) в район Вавеля из Каринтии, заставляет вспомнить древние этногенетические легенды с характерным для них топосом миграции племени и/или прихода извне первого правителя[216].









