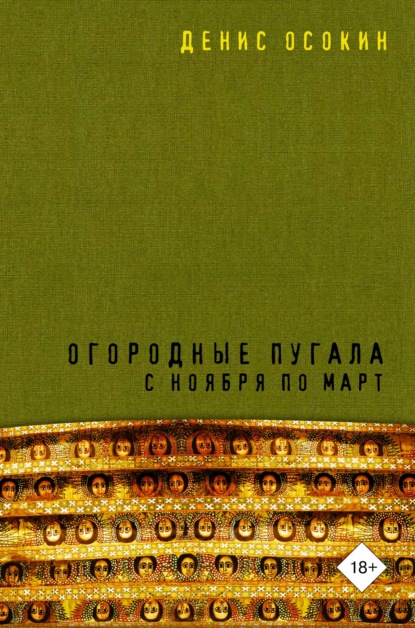Полная версия
Влюбленный пленник
Слово «многобожие» резонирует в любом обществе, словно вызов. Слово атеист слишком близко к христианскому морализму, христианскому, но там, где Христос сводится к единственному шипу из его царственного божественного венца; а многобожие заставляет язычника погрузиться в глубь веков, ту самую, которой дали насмешливое прозвище «тьма веков», когда Бога еще не существовало. Некое хмельное упоение и великодушие позволяет язычнику подходить ко всему и ко всем с таким же почтением, как и к самому себе, не унижая и не принижая себя. Подходить. Возможно, созерцать. Наверное, язычеству я дарую больше, чем то, на что оно может претендовать и, похоже, в предыдущих строках я уподобил его анимизму, свойственному первобытным народам. Воскрешая в памяти эту церемонию, я пытаюсь объяснить, из какой пещеры я вышел, в какой пещере я оказываюсь порой из-за какого-нибудь мимолетного переживания.
В «Ревю д’Этюд палестиньен»[17] мне хотелось описать, что осталось от лагерей палестинских беженцев Сабры и Шатилы после того, как фалангисты провели там три ночи. Одну женщину они распяли заживо. Я потом видел ее тело, с раскинутыми руками, облепленное мухами, особенно много мух было на тех местах, где раньше находились пальцы: мухи прилепились к десяти сгусткам запекшейся крови, ей отрезали фаланги, возможно, отсюда и их название? – подумал я тогда. В тот самый миг и на том самом месте, в Шатиле, 19 сентября 1982 года, мне показалось, что все это было какой-то игрой. Отрезать пальцы секатором – как садовник подрезает тис – эти шутники-фалангисты были просто веселыми садовниками, которые из английского парка хотели сделать французский. Это первое впечатление улетучилось, как только мне удалось немного придти в себя, и я мысленно прожил совсем другую сцену. Ветки и пальцы отрезают не просто так, безо всякой причины. Когда женщины услышали выстрелы сквозь закрытые, но с разбитыми стеклами окна, когда увидели лагерь в зареве осветительных ракет, они почувствовали себя в западне. Содержимое шкатулок с кольцами они вывернули на столы. И каждая женщина, словно перед нагрянувшим неожиданно праздником, нацепила все свои кольца на пальцы – все десять, включая и мизинцы, а может, и по пять-шесть колец на палец. Они пытались бежать, надев на себя все золото? Наверное, одна из них, полагая, что разжалобит этим какого-то пьяного солдата, сняла с указательного пальца дешевое колечко с поддельным сапфиром. Уже и без того пьяный, но еще больше опьяневший от вида драгоценностей, желая как можно быстрее отправиться дальше, фалангист своим ножом (или найденным возле дома секатором) отрезал пальцы до первой фаланги, потом положил их в карман штанов.
Пьера Жмайеля в Берлине принимал сам Адольф Гитлер. То, что он увидел – юные мускулистые блондины в коричневых рубашках – определило его решение: у него будет своя милиция, созданная на базе футбольной команды. Христианин, но ливанец, он терпел насмешки от христиан, у которых сила заключалась лишь в финансах. Насмешки маронитов вынудили Пьера и его сына Башира объединиться с израильтянами, а фалангистов применять жестокость, которая есть отражение силы, более действенной и уместной здесь, чем обычная сила. Ни Пьер, ни его сын не сумели бы управлять, не будь у них покровителя: Израиля, и у жестокого Израиля тоже был свой покровитель: США.
Так я лучше узнавал фалангистов, которые целовали крестики в ложбинке между грудями, удерживали во рту медальон с изображением Богородицы, подвешенный на золотой цепочке, толстыми губами лобзали руку Патриарха и благочестиво мастурбировали рукояткой золоченого Жезла.
Я поднял глаза и пристально посмотрел на «Пресуществление Святых Даров» в монстранции, где торжественно и смиренно, но неизменно и непреложно являл себя «хлеб». Церковь, сколько личных кораблекрушений…
Неслись вскачь магометанские скакуны. Может, они спасались бегством? Вслед за Аббатом мы вошли в церковь. Черная Дева и ее черный Иисус приняли привычные позы, но тогда, на Троицу, почувствовал бы я это восторженное состояние, если бы в Барселоне не усадил в свое такси двадцатилетнего марокканца, который оставался со мной на протяжении всех религиозных обрядов? Тот изначальный поцелуй, дарованный Аббатом на хорах церковного придела, поцелуй, что множился, словно хлеб, раздаваемый назарянином на берегу озера, он раскрывался, как раскрывается бутон, отделяя свои лепестки, и каждый лепесток, отсоединяясь от венчика, все равно оставался этим изначальным поцелуем, а напомнил мне поцелуи, которые глава Каинова племени дарил – в порядке убывания – шестнадцати именитым.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Город в Иордании. (Прим. ред.)
2
«Раис» – глава, президент в переводе с арабского языка. (Прим. ред.)
3
Аджлун – город на северо-западе Иордании, расположенный вблизи границы с Израилем. (Прим. ред.)
4
Палестинцы, которых часто приглашали в Китай, напомнят – и мне нечего будет им возразить – высказывания Мао: одно из самых часто цитируемых касалась женщин, которых тот называл «Другая половина созвездия»
5
Армия Освобождения Палестины.
6
Сус и Сфакс – города в Тунисе. (Прим. ред.)
7
Меденин – город на юго-востоке Туниса. (Прим. ред.)
8
Мухаммад Идрис ас-Сануси – король Ливии (1951–1969). (Прим. ред.)
9
Аббревиатура ФАТХ (FATAH, Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini – движение за национальное освобождение Палестины) является сложносокращенным словом HATAF в обратном порядке букв, само слово “fatah”в переводе с арабского означает «победа», а слово “hataf” смерть. (Прим. перев.)
10
Исходно в арабском языке у слова «фатах» нет значения «замок». Возможно, это значение метафорично введено автором. (Прим. ред.)
11
Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим» («во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного») – фраза, с которой начинается каждая сура Корана. (Прим. ред.)
12
Движение по-арабски «haraka». Автором была допущена ошибка в исходном написании слова. (Прим. ред.)
13
Уехавшая в ранней молодости, она говорила только на американском языке. Такое с палестинцами бывает только в Небраске.
14
Мария Семь Мечей – персонаж из «Сатиновых башмаков» Поля Клоделя. Семь скорбей, которые выпали на ее долю.
15
Искаженная цитата из стихотворения Малларме. (Прим. перев.)
16
Кардинал Франси́ско Химе́нес де Сисне́рос (исп. Francisco Jiménez de Cisneros; 1436 – 8 ноября 1517) – глава испанской церкви, великий инквизитор. (Прим. перев.)
17
«Revue d’études palestiniennes» – книга Жана Жене. (Прим. ред.)